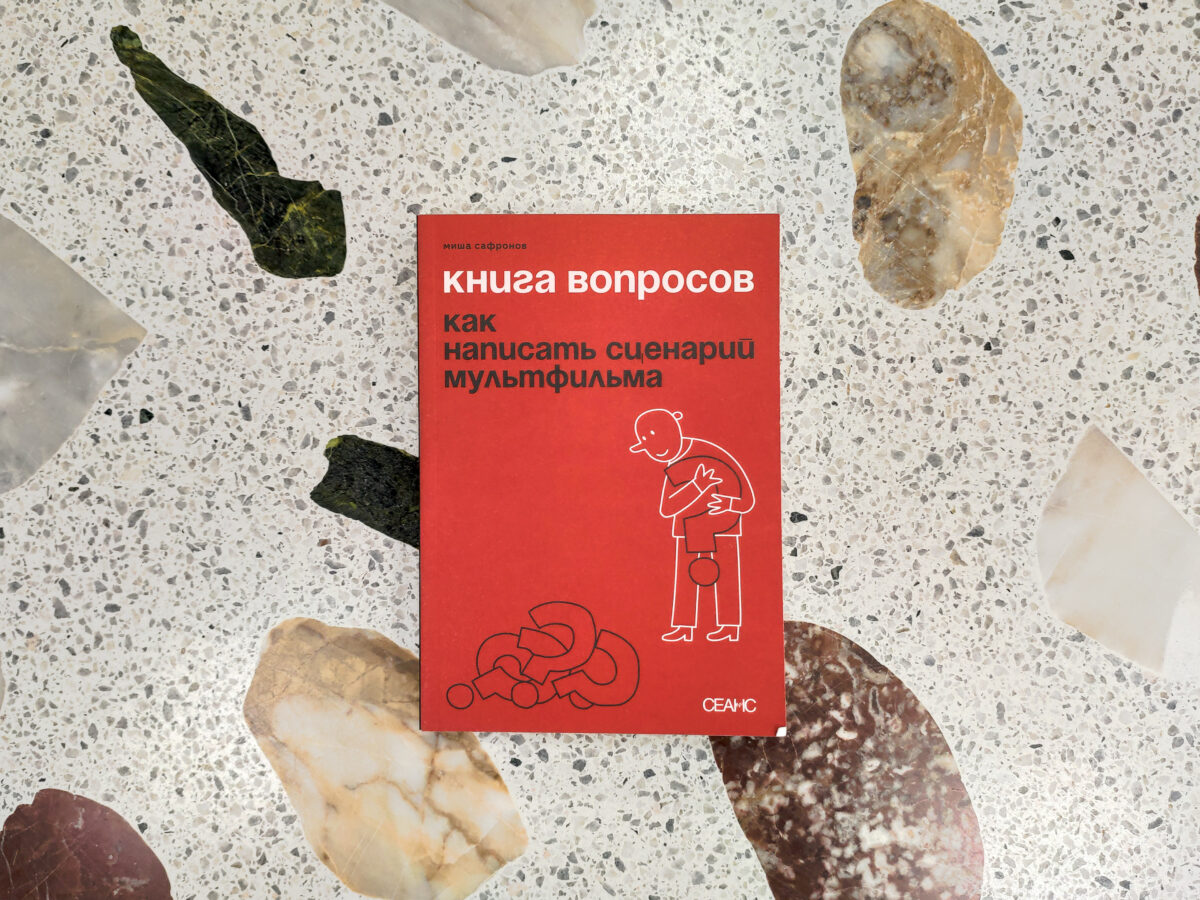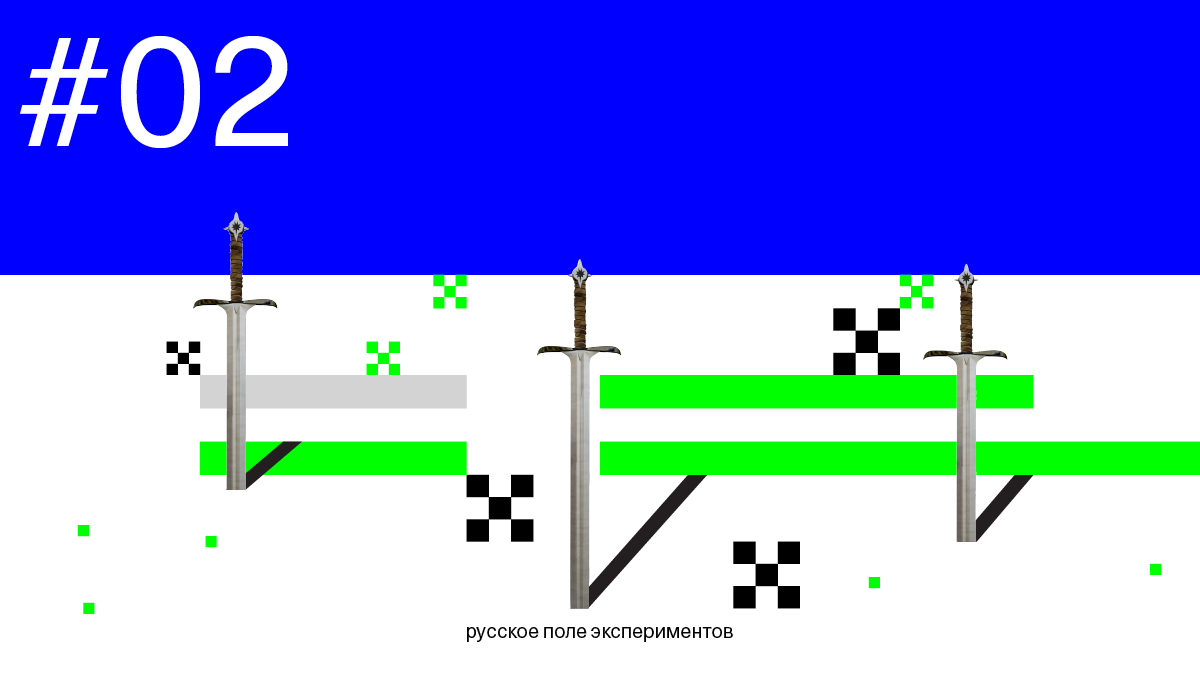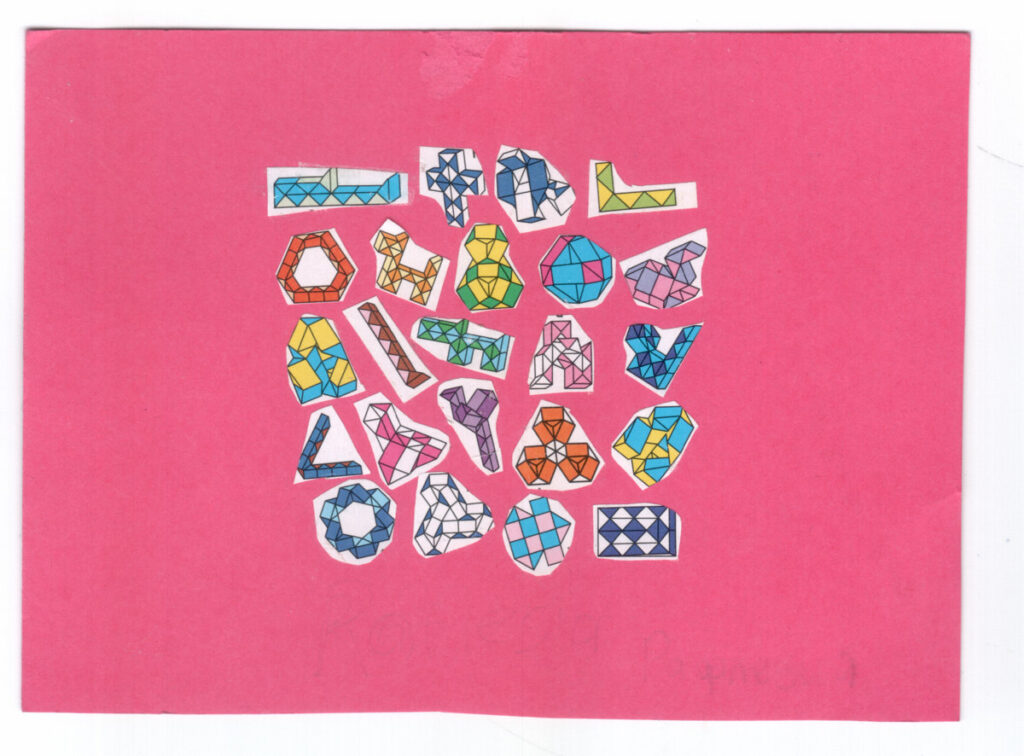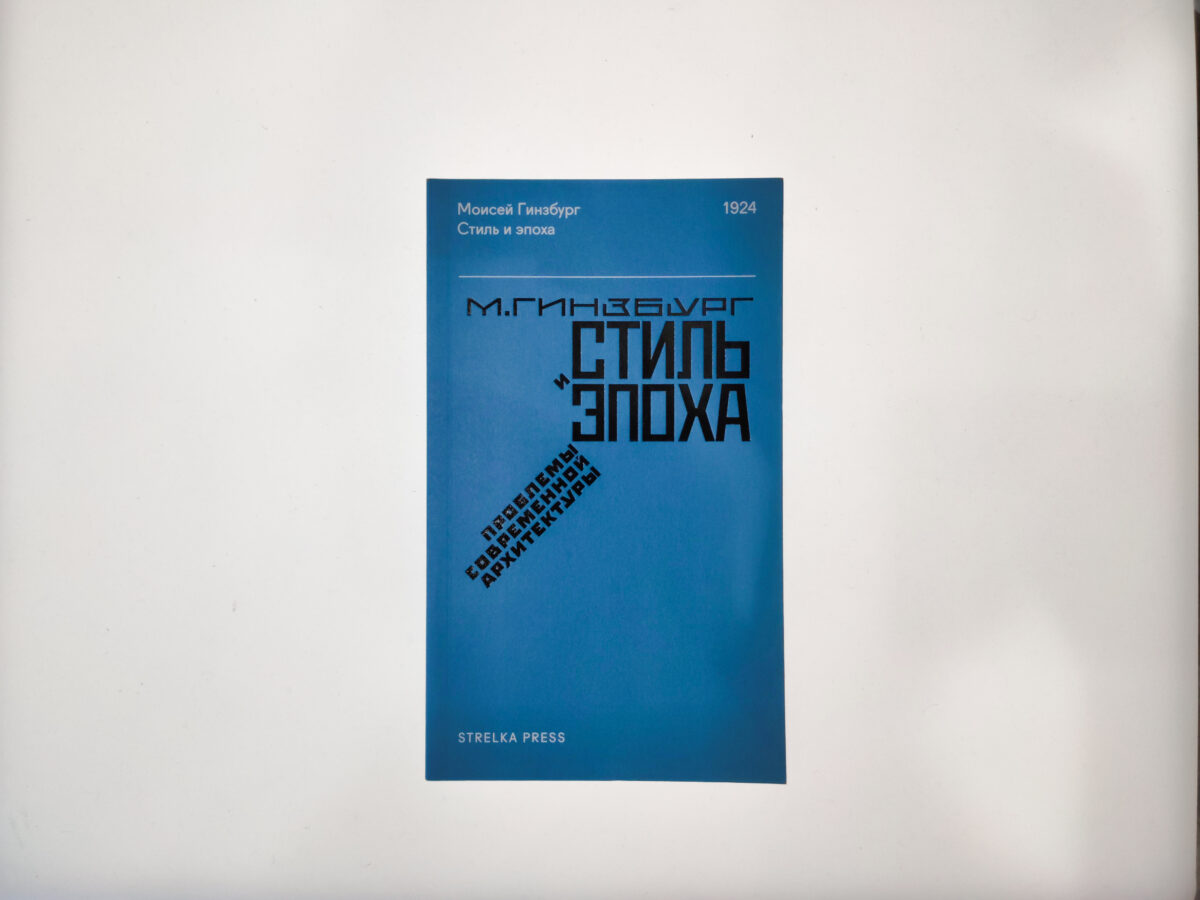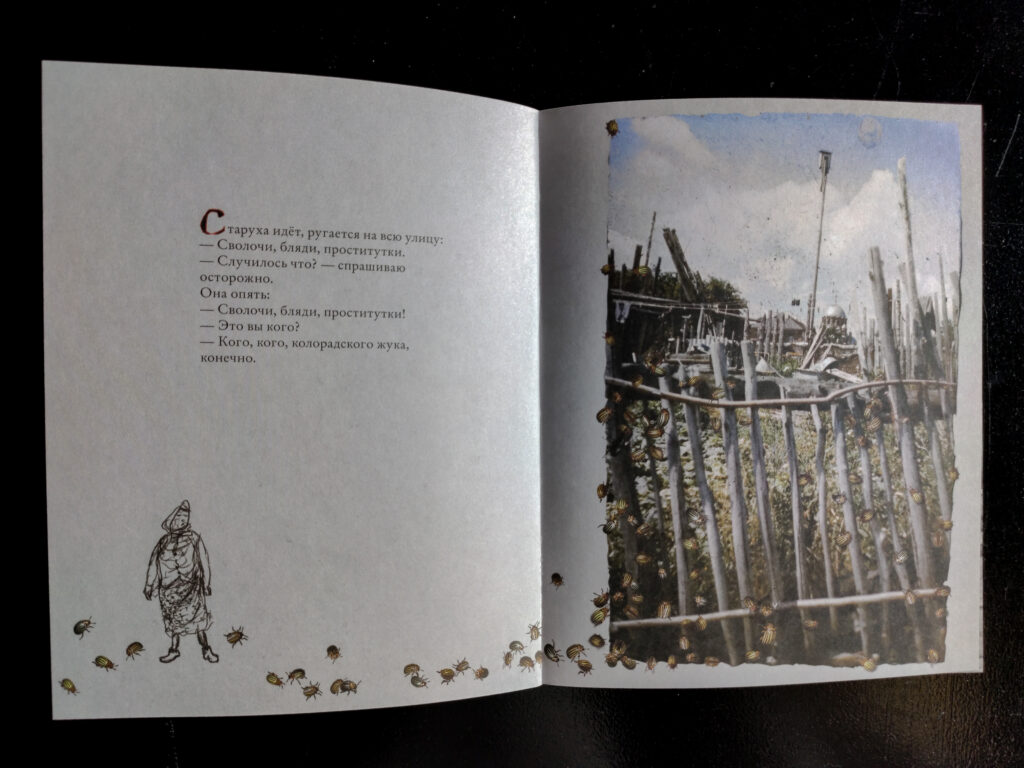Кризис — это идеальный шторм: внутренние проблемы обостряются под влиянием внешних факторов и резонируют так, что необходимо их срочно решать. Этот шторм (и попытку выбраться из него) подробно описывает в своей работе психотерапевтка Елена Сигитова. Эта книга может стать вашим настольным пособием по выходу из кризиса: помимо теории (довольно, впрочем, прикладной), там много заданий, упражнений и методик. Книга написана на основе вебинаров, которые Сигитова вела для тех, кто столкнулся с психологическими проблемами, вызванными пандемией. С разрешения издательства «Альпина Паблишер» мы публикуем главу «Почему нам так тяжело?»
Всё нижеописанное — сумма моих наблюдений за процессами и общественными трендами, связанными с проживанием различных кризисов. Я приглашаю вас тоже подумать вместе со мной о том, что ещё вы заметили в собственном кризисе. Не обязательно делать это так академично и последовательно, как я. Вы можете выражать свои мысли как угодно, потому что это просто обычная жизнь.
Вот несколько причин того, почему мы очень сильно и эмоционально реагируем на кризисы:
1. Нарушение непрерывности бытия. Оказывается, нам важно ощущать, что мы сами и мир стабильны и ничто не собирается разрушаться или исчезать. Мы просыпаемся утром, спускаем ноги с кровати, и там, куда мы встаем, есть пол. Мы идём в ванную, смотрим в зеркало и видим там того же человека, что и вчера. Если сейчас у нас что-то болит или идёт необычно, потом оно пройдёт и всё вернётся на круги своя. Вот это чувство незыблемости мира и самих себя очень важно, потому что составляет базовую опору. К сожалению, любая ситуация кризиса резко и неожиданно выдёргивает из-под нас эту непрерывность, незыблемость и опору. Наше ощущение мира меняется, и сам мир становится совсем другим — зыбким, дрожащим. Меняется самая обычная, ежедневная жизнь, а вовсе не какие-то экстремальные параметры. Меняемся мы сами, наши реакции, то, как мы всё это переживаем, и мы перестаем быть в себе уверены. Большая проблема любого кризиса состоит в том, что чувство опоры у кого-то совсем исчезает, а у кого-то сильно расшатывается и вот-вот исчезнет.
2. Возвращение к базовым уязвимостям. У всех людей есть то, что называется «трещины в фундаменте»: у кого-то детская травма, у кого-то своеобразный семейный опыт, у кого-то с генетикой особая история, кто-то тревожный, а кто-то болеет и т. д. В общем, у всех есть какой-то багаж, с которым мы приходим во взрослую жизнь: у кого рюкзачок, а у кого и целый чемодан. Обычно даже если и есть что-то болезненное или плохое в этом чемодане или рюкзачке, там всё более-менее нормально упаковано. Это значит, что мы можем идти по жизни и наш багаж и его содержимое не будут сильно нам мешать. Кризис приводит к взрыву в рюкзачке или чемодане. Наши базовые сложности и проблемы вылетают оттуда на большой скорости, и мы снова сталкиваемся с ними нос к носу. Наверное, есть люди, которым в кризисе везёт не так уж сильно удариться о свои уязвимости, но таких меньшинство. То, что обычно происходит, — это практически универсальный опыт: люди массово стукаются и ранятся о те самые ступеньки в своём развитии, с которыми в общем-то всю жизнь до этого и боролись или пытались справиться. Например, у вас плохо получается горевать, — вот вам 500 кг горя, так как кризис связан с утратой привычного уклада жизни. Вам мешает склонность к тревоге? Вот вам ещё больше тревоги, так как в кризисе много неопределённости. Иметь базовые уязвимости — это общечеловеческая трагедия. И это часть проблемы любого кризиса, когда базовые человеческие уязвимости обнажаются, как бы хорошо они ни были проработаны. Кризис нас к ним неизбежно возвращает, и мы снова не знаем, что делать.
3. Потери, горе и расставания. У многих людей в кризисе запускается процесс расставания с привычным ходом вещей, с какими-то важными штуками в жизни. То, что мы переживаем, когда что-нибудь утрачиваем, — это горе. Вообще горе — это очень трудно, даже если мы точно знаем, зачем оно и почему, даже если умеем это горе проживать. Прощаться в любом случае очень больно. И поэтому основная проблема горя (в том числе в кризисе) состоит в том, что от него нет таблетки. Самый эффективный способ справиться с горем — это его прожить. Человечество, к сожалению, плохо умеет это делать. Раньше, в древние времена, было много всяких ритуалов и прочих полезных идей, которые людям помогали проживать горе и прощаться. Сейчас, в цифровую эру, мы от этого очень далеко отошли и в целом сильно изолированы друг от друга. У нас появилось много других процессов, без сомнения полезных, но вот с проживанием горя у нас всё ещё совсем беда. Нам так же трудно с горем, потерями, расставанием, как и две, три, пять тысяч лет назад. И любой кризис, к сожалению, многое у нас отнимает. Даже если не всё из этого отнятого было нам так уж важно, всё равно мы вынуждены переживать, прощаться, горевать об утраченном, и это действительно огромная трудность, без преувеличений.
4. Неопределённость и отсутствие контроля. Этот пункт, наверное, в чём-то вытекает из предыдущего. В кризисе базовые опоры шатаются, становится слишком много неуверенности, и долгое время ничего не понятно. Что будет дальше? Как мы будем жить, как будем работать? Как всё это будет выглядеть? Что будет в следующем году? А через пять лет? Увы, даже если вы уже сколько-то пробыли в этом кризисе, вы можете всё ещё не знать, что дальше. Неопределённости так много, что, даже если вы маньяк-педант с тотальным контролем, всё равно вам может быть очень страшно и тревожно. Обычному человеку не под силу переварить столько неизвестности. Кризис, как мы с вами разбирали в первой заметке, — это поворотная точка, после которой становится или лучше, или хуже, но мы не знаем, как именно будет. И выдерживать это незнание очень трудно.
5. Страхи и угрозы для будущего. Это о том, о чём я упоминала в первой заметке, — о неотъемлемом свойстве кризиса. Кризис всегда представляет угрозу для того ценного, что у нас есть. Поскольку мы не знаем, что и как будет дальше, то предполагаем, что, возможно, будет хуже, глобально или локально. Мы чего-то лишимся, что-то станет совсем по-другому. Чего только люди не переживают в связи с этим! Любой крошечный момент и параметр вашего личного кризиса может содержать в себе угрозу для будущего. На самом деле угроз намного больше; они буквально на каждом шагу, и это тоже та точка, в которой нам очень трудно, ведь любая угроза означает вероятность чего-то плохого. Иногда, к сожалению, эта вероятность видна невооружённым глазом. Если человек потерял работу (частое явление в кризисе), то у него определённо грядёт плохой период. Если он постоянно срывается, истощен ментально и морально, то всё уже плохо и, возможно, будет хуже. Всё это — угрозы для будущего. Правда, не ясно, что будет дальше, и будущее не видится в хорошем свете.
6. Смещение нормальности. К сожалению, в любом кризисе мы постепенно перестаем понимать, что нормально, а что нет. Поступает много противоречивой информации, и мозг производит множество быстрых оценок и переоценок в попытках маркировать что-то новое как нормальное или ненормальное. Дополнительно к этому вороху нового, которое надо маркировать, люди перестают понимать, нормально ли, например, что они так реагируют? Нормально ли, что кто-то саботирует опасность и изменения, а кто-то вообще отрицает кризис? А кто-то по-особенному себя ведёт и чувствует? Смешались в кучу кони, люди. Всё это — нормально? Нормальность — это условность, конечно, но обычно нам удаётся договариваться. Обычно мы можем в каких-то пределах, пусть и минимальных, определять, что нормально, а что нет. И вот в кризисе мы разом теряем способность это делать.
7. Актуализация агрессивных и деструктивных процессов. У людей, конечно, есть базовая агрессия, которая никуда не исчезает, но в кризисе её как будто резко становится больше и она отовсюду лезет. То, что раньше как-то удавалось сдерживать, контейнировать в самих себе или между людьми и группами, — все эти сдерживающие элементы вдруг слетели, и агрессия вылилась наружу, в мир. Если кризис не только личный, но и глобальный, то агрессия может идти и со стороны властей. Но и без властей всё сложно: обычные люди в кризисе теряют терпение и начинают налетать друг на друга: а вы то, а вы сё, а вы те, а вы эти. Это, с одной стороны, закономерно, потому что каждый боится так, как умеет. Некоторые умеют бояться через агрессию. К сожалению, даже если вы лично не являетесь мишенью для чужой агрессии, её присутствие рядом создает дополнительную угрозу. Просто страшно становится: до чего же мы ещё дойдём? Вещи будем бить и ломать? Люди станут бросаться друг на друга? В общем, этот пункт про то, что в кризисе часто происходит невольная легализация агрессии на всех уровнях — личном, общественном, иногда государственном. И чем больше по масштабу кризис, тем больше агрессии. Это важный элемент кризисного пазла. Когда мы в кризисе, мы в чём-то начинаем себя вести совсем как первобытные люди. Это закономерно, но очень грустно и часто страшно.
8. Экспозиция уязвимости. Я не знаю, насколько это название корректно, но мне кажется, что люди в кризисе вдруг понимают, насколько они (мы) хрупки. Условно, вот какая-то ежедневная мелочь — как она, оказывается, может на всё влиять! Как много значит обычное переживание, действие, рутина. Как легко может человек умереть, — это же уму непостижимо! Обычно мы пребываем в иллюзии относительно своей хрупкости. Мы в себя верим, мы такие вроде нормальные, крепкие, здоровые и немножко даже бессмертные. Даже если и есть в нас что-то некрепкое, мы с этим живём спокойно, мы эту хрупкость не переживаем и не помним ежеминутно. А любая кризисная история ставит нас в ситуацию, в которой мы с ужасающей точностью понимаем, как всё вокруг нас и внутри нас хрупко и зыбко. Не только лично мы ужасно хрупкие, но и, например, экономика тоже очень хрупка. Природа хрупка. Отношения хрупки.
Весь мир странным образом хрупкий, короче говоря. С такой хрупкостью мы не имеем дела в обычной жизни. Имеют с ней дело только носители серьёзного личного опыта — кого-то рано потеряли или сами тяжело болеют или болели. У большинства людей этого опыта в норме нет. А в кризисе — есть. То есть хрупкость, уязвимость, бренность всего нашего существования — это то, что мы получаем вместе с кризисом.
9. Темп. Кризис — это слишком много слишком быстрых изменений подряд. Нас сносит водопадом. Мы, может быть, что-то и успели бы переварить, если бы всё менялось хотя бы раз в месяц, а не чаще. Но таких медленных кризисов просто не бывает. Наша психика высокоадаптивна, но, когда всё меняется не просто каждую неделю, а каждый день, когда вы вечером засыпаете, а утром просыпаетесь и вокруг всё иначе… И эти изменения не кончаются. Когда кризис завершится и даже если всё пойдёт по очень хорошему сценарию, такому, что вы будете понемногу возвращаться к обычной жизни, — у вас снова будут слишком быстрые изменения, хоть и в обратную, хорошую сторону. В любом случае это стресс, пусть и позитивный, — он существует. Короче, суть этого пункта в том, что, если в кризисе идёт слишком много слишком быстрых изменений за единицу времени (а в кризисе почти всегда так и есть), человек перестает понимать происходящее, перестает успевать за событиями и в какой-то момент теряет адаптацию.
10. Травма и ретравма. Травма — это по определению что-то настолько большое и сильное, что человек технически не может с этим справиться без повреждения психической структуры. Ну вот, допустим, шёл-шёл человек, и на него упала бетонная плита весом 200 кг. Может ли он с этим справиться без повреждений? Нет. Если плита его не убила, то, скорее всего, повредила его тело, и довольно сильно. Соответственно, травма — это что-то, что по определению не может не оставить следа. Психологическая травма — это аналог бетонной плиты, но не для тела, а для психики. Что-то, с чем человек не смог справиться имеющимися ресурсами и силами своей психики. Травмы, конечно, имеют свойство зажи- вать, с помощью специалистов или без них. Точнее, травмы, как правило, имеют тенденцию к зарастанию, потому что никто не хочет вечно жить в боли. Поэтому травмы заживают. Любой кризис, к сожалению, многих ударяет по старым травмам. Частично это то, что я уже упоминала в пункте 2, — возврат к базовым уязвимостям. Но иногда у людей есть травмирующий опыт и помимо базовых уязвимостей. Например, у выходцев из СССР есть опыт разнообразных ограничительных и карательных мер: репрессии, закрытые границы и т. д. Этот опыт существует в памяти народа. То, что некоторые государства в кризисе становятся очень агрессивны по отношению к своим гражданам, вызывает к жизни старые травмы: ведь неизвестно, до какой степени агрессивности может дойти власть в своих ограничениях, и это очень тревожит и пугает. А если обратиться к современной России, то в её короткой истории тоже уже были и серьёзные экономические кризисы, и годы, когда всё рушилось и люди лишались всех своих сбережений. Это тоже у многих из нас хранится в памяти, некоторые и сами это пережили, а у некоторых через это прошли родители. Подобные воспоминания могут быть лично вашей ретравмой, несмотря на то что напрямую с причиной вашего кризиса они не связаны, а лишь задевают старую мозоль. Ретравма — это когда человек снова чувствует боль и угрозу, которые он уже когда-то пережил. То есть уже один раз справился, как мог, — а воспоминания остались. Текущий кризис часто намекает нам, что снова будет то же самое. Как будто всё старое подступает снова, и непонятно, что делать, ведь прошло время, мы забыли все лайфхаки и хитрости, мы уже не справимся заново, нам просто будет плохо, и всё. Ретравма означает, что мы снова чувствуем себя так, будто оказались под бетонной плитой. Ретравмы — тоже часть проблемы в любом кризисе. К сожалению, они болят так же, как и травмы, поэтому так и называются.