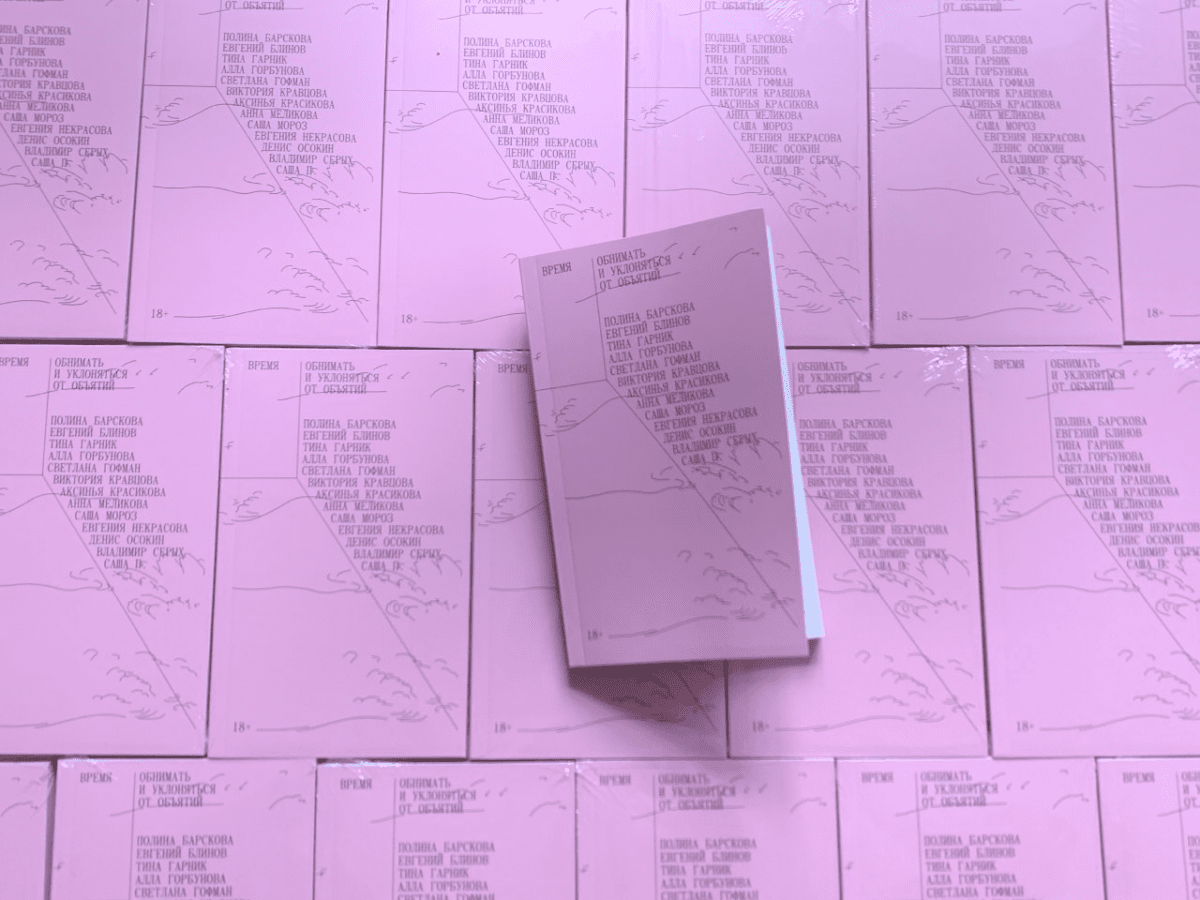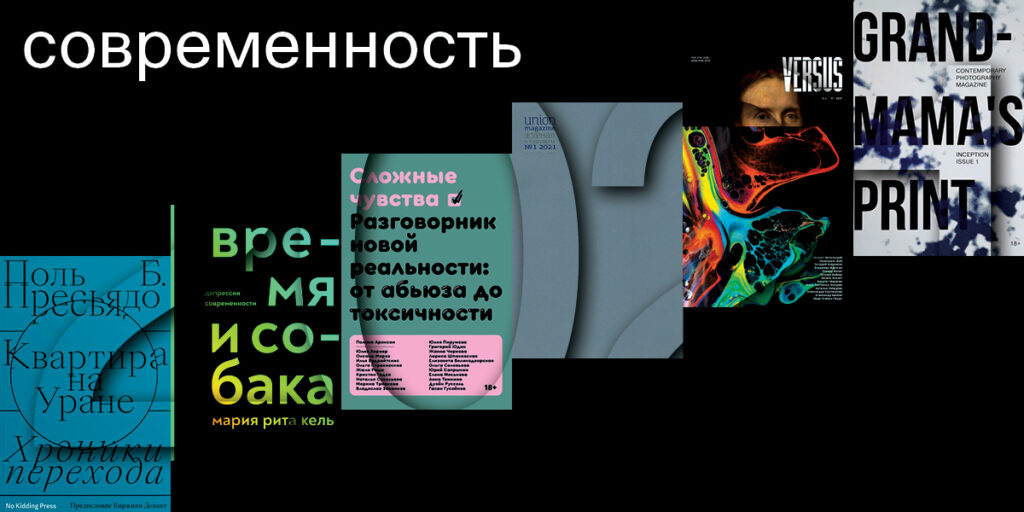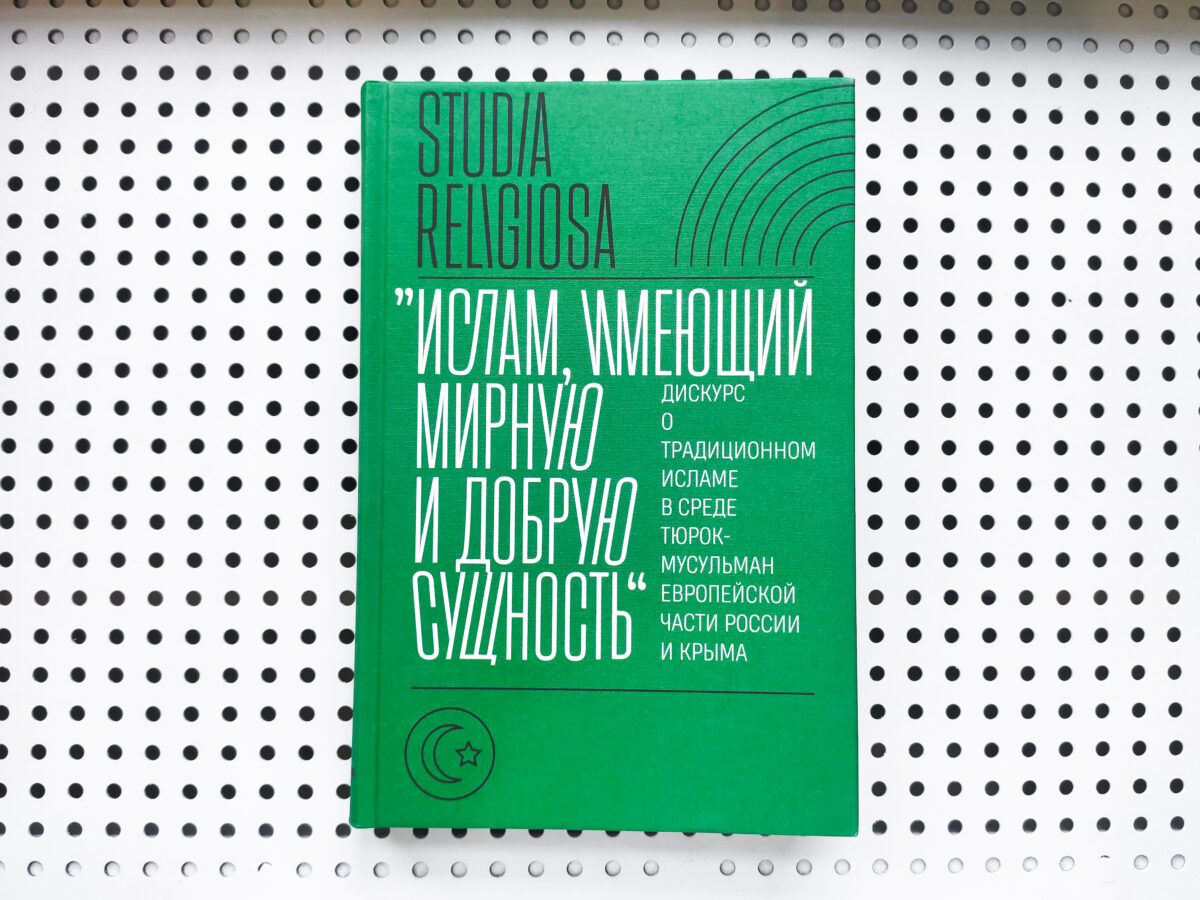«Красные части: автобиография одного суда» — книга американской писательницы Мэгги Нельсон об убийстве ее тети Джейн и о состоявшемся спустя тридцать пять лет судебном процессе. После того, как совпадение ДНК указало на нового подозреваемого, дело, в течение десятилетий остававшееся нераскрытым, было возобновлено. Нельсон, принявшая участие в судебном процессе, обращается к теме человеческой одержимости насилием. Фиксируя не только хронику суда, но и происходящее внутри нее — ужас, горе, одержимость, скептицизм, растерянность, — с репортерской тщательностью, она создает самобытный литературный текст беспощадной нравственной точности. С разрешения издательства No Kidding публикуем главу «Красные части», в которой авторка погружается в моменты своего прошлого, связанные с болью, насилием и смертью.
В течение нескольких лет после смерти отца я часто оказывалась в одиночестве или в одиночестве с матерью. Между нами, девочками, — приговаривала она. Эмили уехала в интернат, когда ей было тринадцать,
а мне — одиннадцать. С этим отъездом в ее жизни началась череда приключений и заточений, и домой она больше не возвращалась. У матери был новый муж, но его присутствие ощущалось чужеродным, мерцающим. Он появлялся за ужином от случая к случаю, с потемневшими от краски и масла руками. Он был маляр и плотник, на несколько лет младше ее. Когда-то давно отец нанял его красить наш дом в Сан-Рафаэле — единственный дом, где я жила с обоими родителями. Мой отец был юристом и часто ездил в командировки, мать была неудовлетворенной жизнью домохозяйкой с двумя детьми. Она влюбилась в маляра, когда мне было семь, развелась с отцом, когда мне было восемь, и вышла за маляра, когда мне было девять.
После развода мы с Эмили около полутора лет мыкались по разнообразным квартирам и домам наших родителей — это называлось совместной опекой. Всё изменил телефонный звонок ранним вечером 28 января 1984 года. В тот день отец должен был встретиться со своей подругой, но не пришел. Подруга позвонила моей матери, сказала, что беспокоится, что на него это не похоже, что здесь что-то не так. В то время мои родители жили всего в нескольких милях друг от друга в городке под названием Милл-Вэлли. Они были по-прежнему близки — отец даже вел себя так, будто однажды этот морок безумия схлынет и они снова сойдутся как ни в чем не бывало. Мать сказала его подруге, что заедет к нему, чтобы убедиться, что всё в порядке. Мы с Эмили тоже поехали.
Хотя у нас и не было причин всерьез подозревать неладное, в дороге нас одолели дурные предчувствия. То ли я, то ли Эмили (не помню) попросила мать выключить радио — его маниакальное чириканье звучало совсем неуместно. Сворачивая к дому, мать заметила, что на дорожке лежало несколько газет и что почтовый ящик был полон.
Мы вместе зашли в дом, но в его спальню мать спустилась одна. Через минуту она вернулась и гаркнула, чтобы духу нашего здесь не было, быстро.
Мы с Эмили посидели немного на обочине, глядя, как мать носится из комнаты в комнату с криком: Не смейте входить, пока я не убедилась, что ничего не указывает на грязную игру. Мне нужно убедиться, что ничего не указывает на грязную игру.
Мне было десять, и я не знала, что такое грязная игра. Я знала, что так называется фильм с Голди Хоун и Чеви Чейзом, который мы с отцом недавно посмотрели по телевизору, но тот фильм был комедией.
Где у твоего отца лежит чертов телефонный справочник, — ревела она, суматошно хлопая дверцами шкафчиков, забыв от потрясения, что главное, что нужно было сделать, — это набрать 911.
Около получаса на темнеющей улице не было никого, кроме нас с Эмили да подростка, который катался на скейте по кварталу туда-сюда, озадаченно наблюдая за сценой, что разворачивалась на его глазах, пока сумерки уступали место ночи. Когда наконец приехали полиция и скорая, он с треском укатил прочь.
Мы с Эмили проследовали за бригадой скорой помощи в дом. Я угнездилась в щели между винным стеллажом и диваном в отцовской гостиной. Не знаю, куда пошла Эмили. Сидя в щели, я никому не мешала и могла видеть, что происходит. Сначала я смотрела, как медики с носилками бросились вниз по лестнице в спальню отца. Потом я смотрела на лестницу. Прошло, как мне казалось, довольно много времени, прежде чем они снова показались в пролете. Они уже никуда не спешили, а носилки были так же пусты и белы, как и на пути туда.
Тогда я и поняла, что он умер, хотя и не знала, как и почему, и долго не могла в это поверить.
Мать сказала нам позже, что обнаружила его лежащим поперек кровати, как будто он сел, поставил ноги на пол, а потом завалился назад. Он был уже холодным.
Не знаю, сколько прошло времени, но в конце концов мы поехали обратно в дом матери и отчима. Там мать стала шарить по шкафам в поисках настольной игры, в которую мы могли бы сыграть. Она сказала, что они с семьей играли в настольную игру вечером после смерти Джейн, и им стало от этого легче.
Не помню, чтобы мы играли в игру, и не помню, чтобы мне стало от этого легче.
Но я помню, как Эмили поклялась мне перед сном, что не прольет и слезинки по отцу, в котором она души не чаяла. Я тоже поклялась. Помню, что ее идея показалась мне тогда не слишком хорошей.
После той ночи мы с Эмили переехали к матери и ее мужу «на полную ставку». Дом, который они недавно купили, стоял так высоко на холме, в таком густом лесу, что теперь он видится мне во сне мрачной, заросшей плющом крепостью. Он был вечно сырым и заплесневелым, вечно окутанным туманом. Не раз бывало, что мы с матерью целый день ходили по дому вслед за единственным солнечным лучом, чтобы посидеть в его свете, а потом целый вечер нависали над обогревателем, плечо к плечу, с книгами в руках, а наша одежда надувалась от потока теплого воздуха.
Около года мы с Эмили делили подвал этого дома, где у каждой из нас была своя комната. Пока отчим не сделал ремонт, подвал хранил хиппарское наследие The Doobie Brothers и Сантаны, которые, как говорят, жили здесь до нас: шторы из деревянных бусин в дверных проемах, звукопоглощающие панели от пола до потолка. Мне пришлось побороться за оставшийся от предыдущих жильцов водяной матрас — нелепую колыхающуюся махину, которая служила мне кроватью до самого отъезда.
Вскоре после того, как мы вселились «на полную ставку», наш дом ограбили, и атмосфера неизбежной опасности с тех пор его не покидала. Грабители заявились ранним вечером; в это время мы с Эмили должны были быть дома одни, но в тот день задержались в школе. Отчим же, напротив, вернулся с работы раньше и сумел рассмотреть чувака в машине, припаркованной у подножия нашего длинного и невозможно крутого подъезда. Другого мужика, который орал со второго этажа: У меня пушка, вали отсюда, — он не видел. В конце концов отчим дал свидетельские показания против того водилы в суде, а несколько месяцев спустя, к своей вящей ярости, узнал его в человеке за соседним столиком итальянского ресторана на нашей улице.
С тех пор, возвращаясь в пустой дом в одиночестве, я каждый раз медленно поднималась по зигзагообразному подъезду с нарастающим чувством ужаса. Добравшись до верха, я открывала дверь запасным ключом, который висел на гвозде, вбитом сзади в деревянную опору, а затем быстро, но тщательно обыскивала дом на предмет незваных гостей и трупов.
Ритуал был таков: я вооружалась разделочным ножом и, убедившись, что в шкафах, под кроватями и в ванных комнатах никого нет, садилась за домашнее задание. Я часто разговаривала с невидимым чужаком вслух, сообщая ему, что он разоблачен, что я знаю, что он здесь, и не боюсь его, нисколечки.
Однажды за ужином в ресторане во время суда над Лейтерманом моя мать говорит мимоходом, что никогда не любила пешие прогулки по лесу, потому что боится наткнуться на труп. Сперва я думаю, что она совсем спятила. Потом вспоминаю свой ритуал
с ножом. Потом мысленно переношусь в то время, когда я работала в баре в Ист-Виллидже, на границе
с Бауэри, и вспоминаю, как терялась всякий раз, когда дверь туалета долгое время не открывалась и раздраженный клиент, которому приспичило, просил меня разобраться с этим. Непременно громко постучавшись с криками Эй, здесь кто-то есть?, я вскрывала замок и быстро распахивала дверь в полной готовности увидеть труп, обмякший на унитазе.
В девяноста пяти случаях из ста дверь заедало изнутри и в уборной никого не было — просто крошечная каморка в свете лампочки, обернутой сиреневым целлофаном (в таком свете всё выглядело модным, а еще невозможно было найти вену). Но в оставшихся пяти случаях там было тело — кого-то, кто передознулся или вырубился. Я знала, что по крайней мере один человек умер в этом туалете от передозировки героином, и, хотя я в ту ночь не работала, этого случая было достаточно, чтобы всё ощущалось как русская рулетка. Я до смерти боялась вламываться в туалет все пять лет, что работала в этом баре.
Мне до сих пор снится эта тускло-сиреневая уборная. Буквально позавчера какая-то женщина порезала себе в ней вены. Как сотрудники бара, мы вроде как должны были позаботиться о ней, проследить, чтобы она не напилась до потери сознания, ничем не бахнулась и не навредила себе. Но мы облажались и не заметили, как у нее в руках оказалось бритвенное лезвие: она заперлась в тесной уборной, чтобы умереть. Полом в туалете служила металлическая решетка, под которой кипело расплавленное ядро планеты. Она растянулась на решетке, и ее кровь стекала к центру мира, напитывая кромешный тáр-тар. Не иначе как из вежливости она успела заткнуть ватой дыры в кирпичной стене. Когда мы вытащили вату, реки ее крови затопили бар.
Злая ирония судьбы заключалась в том, что моя квартира в Нижнем Ист-Сайде была той еще дырой. Возвращаясь с работы поздно ночью, я проверяла, нет ли в комнате моего соседа каких-нибудь девиц под кайфом или на отходáх, чьи сигареты могли бы прожечь обивку мебели, и только потом ложилась спать. Не раз я вытирала странную белую жижу, пенящуюся в уголках его бесчувственного рта. Поскольку
я не употребляла, то не особо разбиралась, что нужно делать, — я только вытирала пену, тушила бычки, убеждалась, что у всех есть пульс, и отправлялась спать.
По правде говоря, моя кровать тоже была той еще дырой. Несколько раз я обнаруживала в ней тело моего парня-торчка, перебравшего с дозой. В последний раз, позвонив 911 и доставив его в больницу Святого Винсента, я осознала — ну неужели! — что, пожалуй, беру на себя слишком много. Я вышла из приемного покоя в дождь и позвонила матери из телефонной будки. Мне было до смерти стыдно, но я не знала, что еще делать. Я ничего не рассказала ей о ситуации, не рассказала о том, что не раз и не два находила его серо-синее, будто покойника, тело в своей постели, не рассказала о тех ночах в ванной комнате, когда он протягивал мне, страдающей от алкогольной крапивницы и гипервентиляции легких, мизинец с порошком на кончике ногтя, приговаривая: Тебе хватит, ты ведь такая крошка.
Очнувшись в машине скорой помощи, он прошамкал: Кажется, я покалечил себе язык, — слова прозвучали так, как будто у него во рту был кусок пенопласта.
Я вышла из больницы, — сказала я в телефонную трубку. — Тут льет как из ведра. Думаю, надо как-то отсюда выбираться.
Она помолчала, а потом сказала: Ну, а что бы сделал Иисус?
Она не шутила. Она вообще-то не религиозна. Наверное, она недавно что-то такое прочитала.
Иисус бы не отступился, — сказала она. — Постарайся потерпеть.
Он точно не выживет в этот раз, — ответила я. Тем более.
Я была полной дурой тогда, но всё же не настолько, чтобы не соображать, хотя бы отчасти, что делаю. Когда врачи прикрепили электроды ему на грудь, стабилизировали сердечный ритм и объявили: Он поправится, — я почувствовала громадную волну облегчения и прилив гордости. Десять лет ничего не значили. Я перенеслась в ночь, когда умер мой отец, но на этот раз я успела вовремя, я была взрослой и обладала нужными навыками, чтобы всё исправить.
Но, «всё исправив», я не вернула отца. Я только подписала документы на выписку отпетого торчка, который поплелся за мной домой, как безмозглый щенок, а посреди ночи признался в интрижке с одной тупорылой марафетчицей и свалил за дозой на заправку на углу Хаустон и авеню Си.
Следующий день я провела не вставая с кровати. Я представляла, что я из тех больных детей, чьи кости могут рассыпаться на миллион кусочков от резкого движения или прикосновения. Что я больна, как «мальчик-в-пузыре» . Я прихватила среднего размера бутылку «Джим Бима» и отпивала из нее, лежа под одеялом с книгой «Человек не остров» Томаса Мертона.
БЕЗ БОГА МЫ ПЕРЕСТАЕМ БЫТЬ ЛЮДЬМИ. МЫ ПЕРЕНОСИМ БОЛЬ КАК БЕССЛОВЕСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ — И СЧАСТЛИВЫ, ЕСЛИ МОЖЕМ УМЕРЕТЬ БЕЗ ЛИШНЕГО ШУМА.
Впервые в жизни мысль о Христе меня парализовала. Я протянула к себе в гнездо из одеял телефон и позвонила одной старой преподавательнице, известной своим религиозным фанатизмом. Христианка- интеллектуалка, — говорила она о себе. Я сказала, что недавно видела ее статью о Евангелии от Луки, но не помню где, и не могла бы она прислать ее мне или хотя бы пересказать.
Может, просто самостоятельно прочитаете красные части? — ответила она вопросом.
Хорошо, — сказала я, опуская трубку на рычаг. — Так и сделаю.
Я понятия не имела, что она хотела этим сказать. Я чувствовала себя глупо, но все, кого я потом спрашивала, тоже не знали. На одной из лекций в аспирантуре я даже спросила об этом профессора «текстуальных исследований», но он лишь пожал плечами. Тогда я представила себе тело, распоротое от подбородка до гениталий, чьи внутренние органы предлагалось перебирать и читать, как чаинки.
Несколько дней спустя я впервые оказалась свидетельницей убийства. Я проснулась в пять утра от топота бегущих ног и скрипа тормозов. Выглянув в окно, я увидела, как три китайских гангстера дубасят того, кто пытался от них убежать, бейсбольными битами по голове. Потом они прыгнули в машину и укатили. Они конкретно его отдубасили. Минуту спустя на улицу с криками выбежала пожилая китаянка в ночной рубашке, и тонкие пластиковые подошвы ее тапочек с гулким эхом шлепали по брусчатке. Всё это произошло в розоватом утреннем свете, свете, который перед восходом солнца заливает почерневшие доходные дома до самой Ист-Ривер. Женщина опустилась на колени перед трупом, который лежал в сточной канаве в какой-то странной позе, и прижала его к груди. Кровь всё текла и текла у него из головы. Я позвонила 911. Нападавшие были черными или латинос? — спросили меня. Ни теми, ни другими, — ответила я и представляться не стала.
К восьми утра на Орчард-стрит начали открываться магазины, люди наступали на ржавое пятно на тротуаре, не замечая его, не догадываясь, что здесь что-то случилось. К середине дня пятно исчезло.
Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Красная часть.