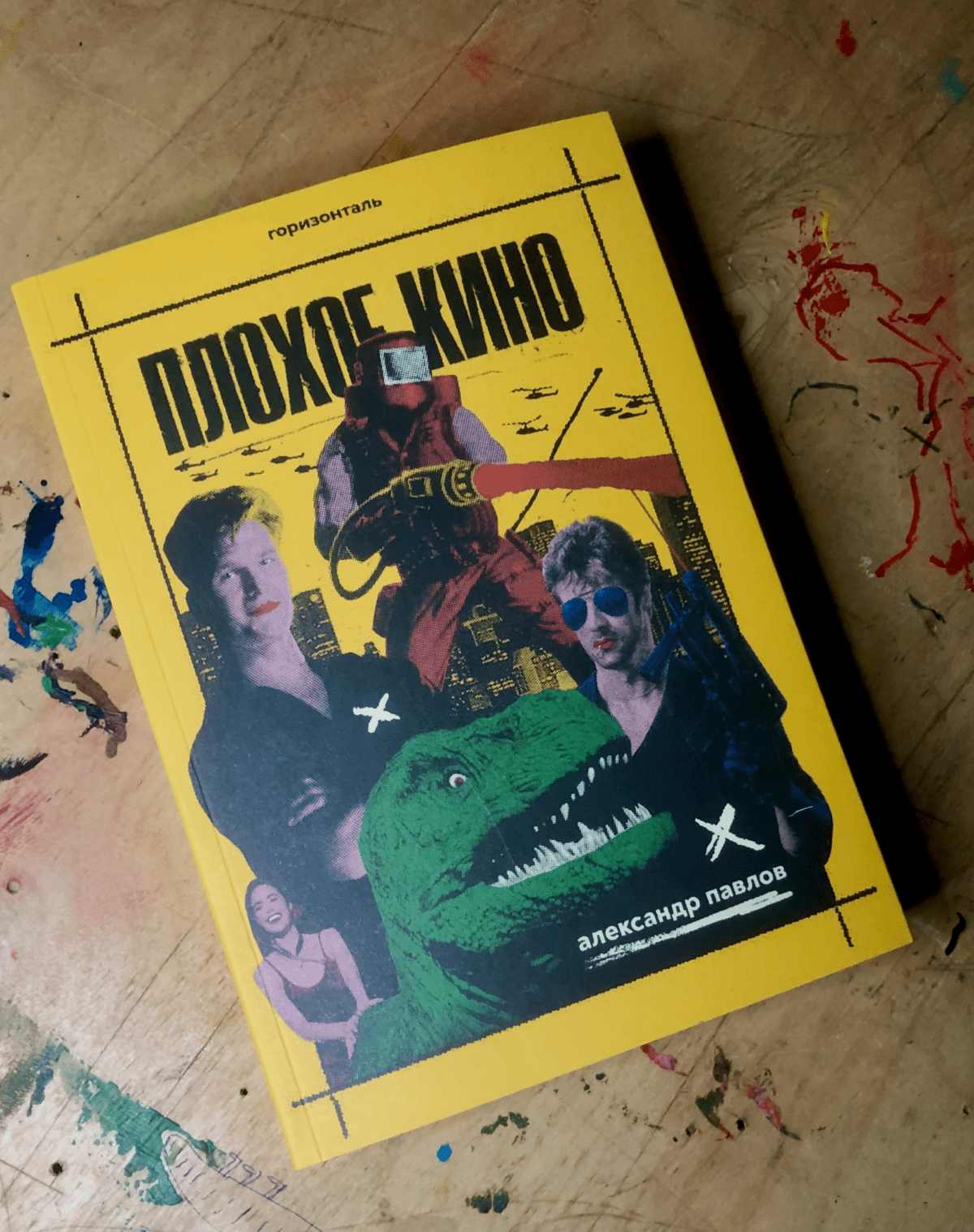Александр Иванов: «Советский идеализм, вера в воображаемые миры, в их более ценностные значения, нежели значение самой реальности — проникала во все социальные слои и не делала различия между идеологическими полюсами»
Как и немецкий идеализм XVIII — начала XIX веков, советский идеализм представлял собой многоуровневое явление, разворачивавшееся в различных культурных практиках (литература, искусство, философия) и социальных средах. Советский идеализм, так же, как и немецкий идеализм, предполагал приоритет идеального над материальным, однако его оригинальность заключалась в критике потребительского капитализма и практике отчуждения.
При оценке советского периода, особенно 70-х — начала 80-х годов, нам нужно избегать деления общества на советское и антисоветское, потому что это деление не помогает нам понять, по мнению Юрчака (совсем недавно в издательстве НЛО вышла книга Алексея Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось» — прим.), то, что происходило в той реальной ткани жизни, где эти элементы советского и антисоветского переплетались на всех уровнях и составляли довольно сложную конфигурацию и смыслов, и практик. Он приводит целый ряд примеров, когда с одной стороны, например, человек мог участвовать в жизни советских институций типа комсомольской организации или даже партийной организации, выступать на собраниях, говорить таким официальным языком, который Юрчак называет перформативным языком, то есть языком, который выполняет не номинативную функцию называния каких-то предметов реальности, а функцию разыгрывания некоторой смысловой игровой ситуации, то есть когда слова сами создают реальность.
Вот эти все риторические фигуры поздней советской речи: «весь советский народ как один поднялся на выполнение решения партийного съезда» — это говорилось, по мнению Юрчака, как некоторые ритуальные формулы почти такого мифологически-религиозного плана. Но одновременно люди, которые произносили эти формулы — и дальше он просто приводит уже как социолог факты: увлекались западной музыкой, следили за последними новостями в сфере западного кино, т.е. занимали вполне себе такую нейтральную или даже вроде бы в стилистическом и эстетическом отношении антисоветскую, антикоммунистическую позицию, которая, повторяюсь, сочеталась с их риторическим исполнением советских ритуалов.
Юрчак говорит о том, что эта жизнь носила, по мнению его респондентов, то есть тех людей, которых он опрашивает, а это разные социальные слои, начиная от интеллигенции, молодежи учащейся, и заканчивая людьми, уже занимающими какие-то профессиональные посты типа инженеров и руководящих работников — он опрашивает их, и оказывается, что большинство этих людей называют свою жизнь в 70—80-е годы странным словосочетанием «нормальная жизнь». Это непростое словосочетание означает для них, что искусство жизни в 70—80-е годы предполагало со стороны вот это лавирование, это выполнение одновременно правил разных уровней существования, то есть правил официальной риторики, которая практиковалась на официальном уровне, и того, что эта риторика была совершенно неуместна, например, в кругу друзей и приятелей. То есть невозможно себе представить, что в кругу, например, сидящих где-то за бутылкой вина или пива приятелей вдруг кто-то начинал говорить языком комсомольского собрания. Это бы воспринималось просто как нечто комическое, какая-то нереальная, неестественная история. Возникает, конечно, ассоциация с сорокинской «Нормой», но я думаю, что когда респондент Юрчака называет эту жизнь нормальной, речь не идет о «норме» в сорокинском смысле — в смысле постоянного употребления некоторой субстанции, которая не является обязательной практикой для советских людей. Может быть, как раз в переносном, символическом смысле вот это говорение на официальном языке и есть употребление этой субстанции.
Теперь я хотел бы перейти к тому, что, собственно говоря, меня наталкивает на тему советского идеализма. Мы более или менее из истории культуры знаем, что такое немецкий идеализм. Мы знаем, что был такой период в истории Германии в конце 18-го — начале 19-го века, когда появляется явление немецкого идеализма. Это явление не является чисто философским, то есть не только философы выражают это умонастроение. Например, есть прекрасная книга Рюдигера Сафранского, которая называется «Шиллер, или Изобретение немецкого идеализма», и именно на примере поэта Фридриха Шиллера он показывает, что такое был немецкий идеализм как некоторая форма культурного опыта, как форма жизни и т.д. Прежде всего идеализм предполагает, что человек-носитель идеалистических взглядов верит и исходит из того, что возможно изменение жизни не реальным материальным образом, а через воображение. То есть сама жизнь, в общем, всегда недостаточно идеальна, она полна различного рода несуразностей и всяческих неприятных моментов. Жизнь в Германии в конце 18-го века была не самая идеальная с точки зрения экономики, комфорта, политических свобод и так далее. Наоборот, Германия была относительно отсталой страной в Европе. Но эту отсталость можно было, считали передовые немцы своего времени, преодолеть с помощью воображения, с помощью прежде всего эстетического воображения. И поэтому тот мир, воображаемый мир, который создавали немецкие философы, поэты в это время: и Шиллер, и Гёльдерлин, и Гёте, и немецкие философы типа Шеллинга, и Фихте, и Канта — это воображаемый мир, в котором выполнялись идеальные эстетические правила и каноны, и в котором реальный мир претерпевал те перемены, которые позволяли человеку с ним смириться или примириться с теми несуразностями и с теми неидеальными моментами реальной жизни, с которыми мы в той или иной степени всегда пребываем.
У Юрчака есть такое понятие, которое он использует в своей книге: он говорит, что советские люди жили, используя в своих разговорах, своих представлениях образ «воображаемого Запада». Имея в виду, что тот реальный Запад, в котором в 70—80-е годы происходили очень большие перемены, который переставал быть похожим на идеальный мир культуры и богемы XIX века, о котором мечталось советским художникам и поэтам — этот Запад постепенно уходил в прошлое. Но советские люди, особенно интеллигенция, жили и мысленно представляли себе именно этот идеальный воображаемый Запад, в котором есть парижские бульвары, художники на Монмартре, нью-йоркские интеллектуалы, сидящие в барах и разговаривающие о музыке, или немецкие философы, которые сидят в кафе и обсуждают проблемы бытия. То есть это такой идеальный мир, полный искусства, полный человеческих высоких культурных практик — об этом мире говорили в кафе «Сайгон», об этом мире говорили на вечеринках после просмотра французских фильмов в «Доме кино». То есть этот воображаемый Запад, на котором мало кто бывал, мало кто бывал на реальном Западе, но большинство людей представляло этот Запад именно как воображаемый идеальный мир. Здесь мне кажется очень важным подчеркнуть, и Юрчак сам об этом говорит, что при столкновении с реальным Западом большинство советских людей испытывает невероятное чувство разочарования той ли иной степени. Оно постигает их или сразу, или постепенно. Тот воображаемый прекрасный западный мир постепенно тает, исчезает и заменяется каким-то реальным, довольно проблемным и менее прекрасным миром.
Но мне кажется, что очень важно здесь иметь в виду, что воображение или воображаемый мир, о котором говорит Юрчак, касается не только Запада, что советский мир 70—80-х годов за счет своего, я бы сказал, довольно скудного материального наполнения жизни различными удовольствиями материального плана, этот мир во многом проживался и воспринимался с помощью воображения. Я полагаю, что как раз вот этот воображаемый идеальный мир составлял невероятно важную часть советской жизни. Тем не менее, говоря об идеальной такой компоненте советской жизни, я вспоминаю нескольких деятелей поздней советской культуры. В частности, назову такие имена, как Эвальд Ильенков — философ, который в 60—70-е годы прославился своими работами, как раз посвященными проблеме идеального. Второе имя — это Геннадий Шпаликов, знаменитый поэт и сценарист, автор сценариев знаменитых фильмов «Застава Ильича», «Я шагаю по Москве» и других. И мне кажется, что две эти фигуры очень хорошо воплощают то, что я сейчас попытаюсь определить для себя как самый сложный, может быть, компонент проблемы идеального в советском пространстве.
Приведу такой пример: 22 января 1980 года академик Сахаров собрался выезжать на заседание своего научного сектора в академическом институте, где он работал, была вызвана машина, он собрал вещи в частности портфель, бумаги. И поскольку в этот день он должен был получить в институте так называемый продуктовый пакет (это такие наборы продуктов, которые выдавались примерно раз в месяц на различного рода предприятиях советских, в основном туда входили обычные продукты, но дефицитные в то время, например, крупа гречка, растворимый кофе, какие-то еще продукты), но в этот раз ему позвонили за несколько дней до этого и сказали, что в продуктовом наборе будет еще разливная сметана, и поэтому академика попросили прихватить с собой пол-литровую банку для разливной сметаны, он взял эту банку, взял авоську для продуктов, сел в машину и отправился с водителем в институт. Но на мосту возле Парка Культуры (мост был почему-то пустой от машин) машина была остановлена, Сахарова пересадили в другую машину сотрудники спецслужб. Он был привезен на улицу Пушкинскую, где находилась прокуратура, и там было объявлено, что по решению правительства он ссылается в город Горький за свою антисоветскую деятельность, и ему разрешено будет позже пригласить туда, если она захочет, свою жену Елену Боннэр. И так Сахаров вместе с вот этой не заполненной сметаной банкой, с авоськой едет в аэропорт и оттуда уезжает в город Горький.
Когда я прочел эту информацию, меня в этом рассказе невероятно привлекла судьба вот этой пол-литровой пустой банки, в которую так и не была налита сметана. Дело в том, что в истории всегда есть такие предметы, которые не выполняют ни познавательной, ни культурной, ни такой мнемотехнической функции, т.е. функции памяти или определенных предметов, которые возбуждают нашу память. То есть это такие абсолютно бессмысленные, никаким значением, никаким смыслом не наполненные предметы, которым и является эта банка.
Французский философ Жиль Делёз полагал, что можно говорить о некотором явлении, которое он называл «абсолютное прошлое». Имея в виду следующее: что в любом прошлом есть какие-то события, обстоятельства или предметы, вещи, которые не сопровождаются никаким вниманием, интересом и не привлекают к себе никакого субъективного взгляда. То есть то, что мы забываем, было когда-то частью нашего субъективного опыта, то, что мы затем можем вспомнить, восстановить в нашей памяти и т.д. То, что представляют из себя вот такие банки — это то, что Делёз называет «абсолютным прошлым», в том смысле, что эти предметы не связаны ни с каким опытом субъективного забывания или припоминания. Пусть это будет даже то самое припоминание, как у Пруста в «В поисках утраченного времени», когда возникает фигура непроизвольного воспоминания в отношении пирожного «мадлен». Так вот почему я подбираюсь к этой банке, потому что, как мне кажется, один из важнейших элементов, которые составляют загадку советского прошлого, как и любого другого, это вот такие моменты, абсолютно не имеющие никакого смысла, такие предметы или обстоятельства, которые абсолютно нейтральны с точки зрения их относимости к какому-то идеологически или смысловому окрашенному эпизоду, или характеристике. Вот эти нейтральные, пустые, абсолютно невзрачные компоненты прошлого составляют некий, странным образом, самый важный план восстановления или археологии советского.
Я приведу еще один пример: на углу Столешникова переулка и улицы, которая тогда называлась Пушкинской (куда, кстати, привезли академика Сахарова), а сейчас эта улица называется Большая Дмитровка, находился знаменитый московский пивной бар «Ладья», еще в народе, в простонаречье его называли «Ямой». Это был один из немногих пивных баров в центре города, еще один был бар «Жигули» на Новом Арбате. Но вот этот бар «Ладья» был наиболее популярен, потому что это был первый бар в Москве, где впервые установили пивные автоматы, и за 20 копеек можно было получить пол-литра разбавленного, но все-таки пива. Этот бар был очень популярен, вообще этот угол Пушкинской и Столешникова. Напротив было кафе «Зеленый огонек» — любимое кафе московских таксистов. А этот бар был довольно популярным местом, где собиралась московская богема. В частности, это был один из любимых баров Александра Твардовского, главного редактора журнала «Новый мир», который находился на Страстном бульваре. Твардовский, который довольно много пил, был, любил посещать этот бар и выпить кружку-другую пива. Так вот в этом баре очень часто заканчивались кружки, и вместо того чтобы получить свое пиво, люди вынуждены были ждать эти кружки и очень часто туда приносили пол-литровые банки, свои банки, в которые наливали это пиво. То есть пол-литровая банка опять возникает как некоторый эпизод, абсолютно подвергнувшийся даже не забвению, а полностью стиранию, как абсолютно невзрачный элемент жизни, который фигурирует в некоторых практиках, которые я бы назвал практиками московской богемы.
Вообще практики московской богемы лучше всего изучать, конечно, по фигуре Геннадия Шпаликова, которого я упомянул. Именно через такие фигуры, как фигура Шпаликова, можно понять, что такое идеализация как некая практика превращения повседневной жизни в художественное целое, в художественное произведение. Нужно сказать, что Геннадий Шпаликов является невероятно важной фигурой для понимания именно московской идеальной художественной сцены или идеализованной художественной сцены, потому что это был настоящий персонаж московской богемы. И главным признаком богемы, что московской, что парижской, являлось то, что богема — это по преимуществу та часть городского населения, которая живет не в квартирах, а на улицах в различного рода барах, кафе и т.д. В знаменитой книге Мюрже «Очерки из жизни парижской богемы» о богеме говорится таким образом, что, как пишет Мюрже, тот или иной человек «уходит жить в богему», то есть богема — это некоторое место, где живут люди, и это место — конечно, это улица. И Геннадий Шпаликов прекрасно знал, что такое жизнь на улице, что такое жизнь в этих пробежках по московским барам, кафе немногочисленным, где у него были свои собутыльники, свои любимые точки. И как раз этот опыт Шпаликова, выраженный в его стихах, к сожалению, я забыл с собой выписки из стихов Шпаликова, но очень рекомендую вам почитать эти стихи, потому что Шпаликов интересен именно как, пожалуй, наиболее сильный представитель московской богемы и один из первых психогеографов Москвы.
Слово «психогеография», ставшее популярным в последние годы, обозначает специфическое освоение города или присвоение города с помощью таких динамических пространственных практик, которые современник Шпаликова — Ги Дебор совершал одновременно в Париже и называл это практиками дыры или такого пробега по городу. Интересно, что и в случае Ги Дебора, и в случае Шпаликова мы имеем дело с хроническими алкоголиками, и очень важно для понимания богемы и для понимания советского идеализма то, что практика алкоголизма была одной из важнейших, но, к сожалению, не очень сильно освещаемых в литературе, практик по идеализации советской жизни.
Вообще, когда мы имеем дело с именно послесоветским алкоголизмом нужно иметь в виду, что этот алкоголизм был связан с очень важной фигурой, которую довольно подробно анализирует Юрчак в своей книге. Он называет это «фигурой общения». Дело в том, что официальная советская идеология предполагала, что единственной практикой, которая делает человека человеком, является труд. Ну не только материальный, но в основном материальный труд — это соответствовало более или менее точно понятой марксистской концепции. То есть именно через труд, через изготовление каких-то материальных предметов человек обретает свою социальную характеристику, становится, грубо говоря, человеком. И то, что отличало богему и практики богемы, заключалось в том, что богема ненавидела труд. То есть для богемы труд не представлял из себя никакой ценности, а главной ценностью было общение.
Юрчак очень интересно описывает, что общение, например, в ленинградском кафе «Сайгон» было связано, конечно, с огромным количеством культурных практик. Люди могли обсуждать там средневековую поэзию, или новые переводы из немецкого экспрессионизма, или какую-то новейшую музыку, но когда после кафе «Сайгон» вот это очень взвинченное, интенсивное общение перемещалось куда-то на квартиру, очень часто это общение было абсолютно немым, то есть люди могли общаться, абсолютно не говоря друг другу ничего, не обмениваясь вообще никакими репликами. Речь шла о том, что общение в этом смысле представлялось как просто совместное проживание или переживание каких-то очень близких людей. Вот в фильмах Хуциева, особенно фильме «Июльский дождь», это молчаливое, абсолютно бессловесное общение, без обмена репликами, просто с некоторой стороны, умолкнувшей, безмолвствующей группы людей — вот это общение очень характерно для практик позднего советского времени и для понимания той ценности, которую придавало этим практикам советское общество, в частности московская и ленинградская богема.
Я еще вспомнил и назвал имя Эвальда Ильенкова, тоже, кстати, хронического алкоголика, который являлся одним из невероятно оригинальных философов и который был автором статьи об «идеальном», о понятии «идеальное» в советской «Философской энциклопедии». Для Ильенкова проблема идеального была связана с его личным опытом, в частности с опытом, который произошел с ним и его коллегами в начале 60-х годов, когда к XXI съезду КПСС готовилась новая редакция программы партии, программы КПСС. Эта программа состояла из трех частей, и третья часть, посвященная собственно идеологии, идеологической составляющей коммунистической партии, была поручена партийному функционеру и журналисту Бурлацкому, который был сотрудником секретариата ЦК КПСС. Бурлацкому нужно было в этой программе описать, дать очень краткую характеристику коммунизма. А это был именно тот период, когда Хрущев сказал, что советские люди будут жить при коммунизме. И вот эту дефиницию коммунизма, это определение коммунизма было поручено дать группе молодых философов, которую возглавлял Эвальд Васильевич Ильенков. Они должны были представить рабочую черновую часть, где давалось бы определение коммунизма и характеристики будущего коммунистического общества.
Когда время уже совсем поджимало, и когда оставалось всего несколько недель до сдачи этих материалов в ЦК, Эвальд Васильевич Ильенков понял, что надо что-то делать. Он взял с собой несколько своих молодых коллег (среди которых были Генрих Батищев, Нелли Мотрошилова и некоторые другие философы) и уехал с ними на дачу в Переделкино, там была дача его отца, советского писателя Василия Ильенкова. И там в течение нескольких дней Ильенков и его коллеги употребляли невероятное количество алкоголя. Все это сопровождалось беседами, разговорами и попытками найти ту дефиницию коммунизма, которая подошла бы Бурлацкому и ЦК КПСС, но этой дефиниции не находилось. И когда примерно на пятый-шестой день алкогольного делириума Ильенков поднялся в библиотеку и дрожащими руками начал ощупывать тома «Gesammelte Schriften» — собрания сочинений Карла Маркса на немецком языке, изданного в ГДР — он понял, что надо обратиться к первоисточнику, припасть к источнику. Он случайно достал том с работой Маркса «Критика Готской программы». Это такая поздняя работа Маркса, где он анализирует программу европейской социал-демократии, принятую в городе Гот. И там совершенно случайно Ильенков находит определение коммунизма, которое входит в программу КПСС. Это знаменитое оргиастическое, я бы сказал, настоящее алко-определение коммунизма, где одним из основных компонентов является определение коммунизма как общества, где все блага польются полным потоком. Вот этот образ благ, которые как из рога изобилия вдруг неожиданно выливаются на людей, абсолютно такая благословенная эпоха божественного, просто оргиастического дара, природного почти дара, который никак не связан, кстати, с производством и с трудовой этикой марксизма — это некая благодать, которая неожиданно сваливается на людей. Вот это определение и вошло в программу КПСС и стало тем даром молодых московских философов партии и некоторой по-своему даже, я бы сказал, фигой в кармане, которая была зафиксирована прямо в сакральном документе коммунистической партии.
Говоря о подходе Ильенкова к проблеме идеального, очень важно, на мой взгляд, не столько анализировать его тексты, хотя они по-своему очень важны, сколько анализировать его практику, его человеческий опыт. Например, невероятно важным в понимании идеального у Ильенкова было то, что он пытался совместить идеальное как некоторые реализованные и преобразованные через труд, через культурные практики материи, но когда его однажды на лекции спросили, что такое идеальное, он сказал: «Ну, как же, идеальное», — и сделал такой жест руками, показывая, что идеальное есть везде. То есть везде, где человеческое усилие придает чему-то форму, там и возникает идеальное. Там возникает то, что можно назвать по Ильенкову некоторой преображенной, одухотворенной материей.
Нужно понимать и знать, что Ильенков сам был невероятно мастеровитым человеком. Он жил в небольшой квартире в проезде у Малого театра в самом центре Москвы, в маленькой двухкомнатной квартире с крошечной кухней, и в одной из комнат за выгородкой был его кабинет, где он всю жизнь мастерил из разных подручных средств проигрыватель для пластинок. Ильенков был невероятный фанатик музыки Вагнера. И вот из разных средств, из разных ламп, деталей, которые ему привозили, которые он находил в разобранных старых радиоприемниках, он собрал какой-то уникальный музыкальный центр, которым восхищались даже его немецкие друзья, которые приезжали и гостили у него дома. И там периодически собиралась компания друзей, причем друзья говорили, что вот на эту кухню размером восемь квадратных метров помещалось до 25 человек, причем всем находилось там место: кто-то сидел на табурете, кто-то на подоконнике. Естественно, все выпивали, и затем все очень часто заканчивалось тем, что гости уходили, Ильенков оставался с одним, может быть, наиболее близким другом, и конец вечера они проводили, слушая одну из опер Вагнера или «Кольцо нибелунга» целиком.
К чему я это все говорю в отношении Ильенкова. Очень важно, мне кажется, понимать, что советский идеализм, эта вера в воображаемые миры, в их более важные, более ценностные значения, нежели значение самой реальности — проникала во все среды, во все социальные слои, и она не делала различия между идеологическими полюсами. То есть, грубо говоря, если искать советский идеализм как практику, то совершенно неважно, будем ли мы его искать в диссидентских кругах — в кругах, которые себя маркируют как антикоммунистические, или мы будем искать его в кругах, маркирующих себя как сочувствующие или даже утверждающие коммунистическую идеологию в то время.
Ну вот такие довольно бессвязные мои наброски по поводу советского идеализма. Я думаю, что это довольно большая тема, я по касательной ее коснулся. Я хочу сказать в заключение еще одну вещь. Дело в том, что нынешние события, которые происходят в мире, можно обозначить как некую девальвацию понятий, образованных в европейском и в мировом контексте в конце 80-х — начале 90-х годов. Прежде всего очень сильно девальвирован смысл и девальвировано ценностное значение такого понятия, как понятие «глобализм», «глобальный мир». Это не значит, что глобальный мир перестал существовать, это значит, что в качестве ценности, в качестве ценностного выбора глобальное и глобальная экономика, глобальная информационная система, глобальные общечеловеческие ценности — все эти понятия перестали быть ценностно нагруженными. Они утратили свою ценность. Зато приобрели ценность понятие локального, понятие экологического, понятия, связанные с движением антироста или degrowth. То есть человечество сегодня переживает довольно странный консервативный разворот, ищет свою идентичность не в глобальном масштабе, а в каких-то локальных практиках, будь то освоение места, освоение экологического пространства деревни или района, увлечение местной культурой и традициями.
Это все на фоне прогрессистских идеалов конца 80-х годов выглядит как консервативный поворот. И я бы сказал, что в рамках этого консервативного поворота более или менее находится весь мир сегодня. Поэтому очень часто, когда я слышу упреки в отношении России, что Россия вдруг откололась от цивилизации, впала в некоторую консервативность, это, на мой взгляд, несправедливо, потому что более или менее все культуры, весь мир находится в этом консервативном тренде. И внутри этого консервативного тренда, конечно, невероятно важным становится первый антиглобальный импульс в нашей истории ближайшей, который произошел в 70-е годы. И когда я говорил и о Шпаликове, и о Ильенкове, я имел в виду именно этот момент, связанный с тем, что именно во второй половине 60-х — в начале 70-х годов происходит и в Советском Союзе тоже реакция на кризис различного рода модернистских ценностей: ценностей прогресса, ценностей роста, ценностей индустриального развития. Возникает целый ряд альтернативных практик культурных. Здесь и деревенская проза, и советский экзистенциализм, будь то в изводе Аксенова, или Ильенкова, или Юрия Трифонова, которому исполняется 90 лет на днях.
Все это очень интересные опыты, которые заставляют меня, например, очень пристально анализировать именно 70-е годы, которые, кстати, становятся востребованными и в смысле своего понимания формы, потому что именно дизайн, прикладное искусство, материальная культура 70-х годов становится все более и более востребованной, и интересной для различных музеев и выставочных залов мира. То есть этот мой очерк поздних советских практик идеализации — он, мне кажется, связан именно с этим трендом или с этими трендами, которые носят более или менее повсеместный характер.
Вопрос из зала: Четко не разобрать, что-то на тему: «Советский идеализм и соцреализм, а также немецкий идеализм и немецкая культура, ощущаете ли вы какие-то параллели?»
АИ: Это отдельная большая интересная тема, понятно, что меня интересует советский идеализм в очень позднем изводе. Когда мы говорим о соцреализме, то золотая эпоха соцреализма — это все-таки конец 30—40-х — начало 50-х годов. И в живописи, и в литературе — это лучшие образцы соцреализма. Меня скорее интересует поздний соцреализм или то, что называется уже отклонением от классического соцреализма. Например, в прошлом году мы начали издавать серию, она, к сожалению, временно приостановлена, под названием «Имена», где вышла небольшая книжка о художнике 60—70-х годов Викторе Попкове. Виктор Попков и вообще художники круга советского «сурового стиля» — это сейчас одно из самых интересных (в смысле вызывающих интерес) направлений в искусстве, и там возникает очень интересная и важная тема. Может быть, вы знаете работу Попкова «Строители Братской ГЭС» — это знаменитые фигуры строителей, написанные в очень суровом плакатном стиле. Но в каждой из своих работ Попков зашифровывал какое-то тайное послание. Например, на фигуре одного из строителей у него был ватник с нашивкой зэка, его потом заставили эту нашивку зэка зарисовать.
Например, у него есть работа, по-моему, она называется «Семейный ужин», там такая сцена на кухне малогабаритной квартиры, где стоит хозяйка молодая женщина что-то готовит, и ее муж сидит, читает газету «Правда», а у него к ноге приник маленький ребенок. Так вот эта газета «Правда», если в нее всмотреться, от 25 августа, там говорилось о том, как введены советские войска в Прагу. То есть Попков везде шифровал какие-то такие тайные знаки очень неофициального частного взгляда на вещи. То есть здесь советская официальная система ценностей начинает немножко корректироваться и, я бы сказал, подгнивать.
Вот это «подгнивание» в 70-е годы выразилось в очень серьезных тенденциях. Например, на смену или параллельно с советской идеологической машиной начинает формироваться идеология русского национализма. Возникает так называемая «Русская партия». Она не была партией в современном смысле слова, но она представляла из себя силы и среди партийного аппарата, и КГБ, и журналистов, писателей и т.д., которые полагали, что на смену советской идеологии, идеологии универсального такого наднационального типа должна прийти национальная идеология, идеология национального государства. Это сейчас очень обсуждаемая, важная тема, которая возникает в 70-е годы. Возвращаясь к вашему вопросу, соцреализм — конечно, это интересно, но это отдельная тема. Разбирать работы Лактионова, например, который является невероятно важным художником именно сегодня с эстетической точки зрения — это интересно, но это тема отдельного большого разговора, куда надо подключать, кстати, и идеалистические практики 20—30-х годов и, конечно, 40—50-е годы.
Вопрос из зала: У советского проекта все-таки было будущее? То, что СССР развалился — это закономерность или случайность? Исходя из темы вашей лекции.
АИ: Я думаю, надо выпить просто вместе, поговорить на эту тему. Это такой вопрос под закуску. Но если говорить серьезно, то я думаю, что советский проект никуда не делся, он как бы временно заснул просто. Вот если можно представить себе такой летаргический сон, то вот это оно и есть. Потому что один из моих последних ресерчей, когда я натолкнулся на тему стеклянных банок, я проанализировал последние ГОСТы, которые были приняты в середине нулевых годов, то есть десять лет назад. Оказывается, вот эти стеклянные банки, которые используются для консервирования с закручиванием крышек приняты в качестве ГОСТов и перечисляю страны: Россия, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Армения, Азербайджан, почему-то там нет Украины, но я думаю, она просто не подписала этот ГОСТ, но на самом деле этот ГОСТ действует и в Украине. Это подробнейшие технические характеристики банок стеклянных, которые и составляют контур Советского Союза. То есть пока этот ГОСТ существует (а таких ГОСТов очень много), Советский Союз никуда не делся, он как бы живет в консервах. Форма банки, способ консервирования и вообще эта практика консервации, которая известна более или менее всем по домашним соленым помидорам, огурцам, квашеной капусте, компотам и т.д. и по кладовкам, заполненными этими банками — вот эта практика и есть тайная невидимая жизнь Советского Союза, которая продолжается.
Вопрос из зала: Вопрос про Горького.
АИ: Максим Горький в анналах литературы. Есть интересная проблема Максима Горького как проблема города Нижний Новгород, например. Потому что Нижний Новгород формировался в советские времена как город Горький, и это индустриальный город рабочего класса, город газа и т.д. Вся часть за Окой, которая строилась братьями Весниными, там есть гениальная архитектура — это конечно образ города Горький, с советскими песнями «А в городе Горький, где ясные зорьки» и т.д. В девяностые годы эта часть города, которая была заводской, оказалась подавленной: заводы закрывались, архитектура руинировалась, но зато вырос вот этот Нижний Новгород, купеческий Нижний Новгород на высокой стороне реки. И сейчас, мне кажется, задача Нижнего, как я ее вижу, заключается в гармонизации этих двух полюсов. То есть Горький становится не только литературной фигурой, но и проблемой того прошлого — безоценочно, не будем называть его ни хорошим, ни плохим — оно просто некое прошлое, которое может быть подвергнуто забвению, что тоже нормально. Ну, например, в XVIII веке никто не читал Шекспира, его считали очень-очень примитивным автором, а в XIX веке он стал очень популярным. В общем XVIII век был совершенно другой эстетический век, там другие были каноны, и Шекспир не соответствовал этим канонам. То же самое с Горьким. То есть это ницшеанство раннего Горького или его большие эпопеи типа «Жизнь Клима Самгина» — это такие тексты, которые временно уснули, с ними непонятно что делать, современная культура не знает, что с ними делать. Но я думаю, что пройдет время, и с ними найдут что делать, и их будут читать, я надеюсь.
Проект реализуется победителем конкурса по приглашению благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина.