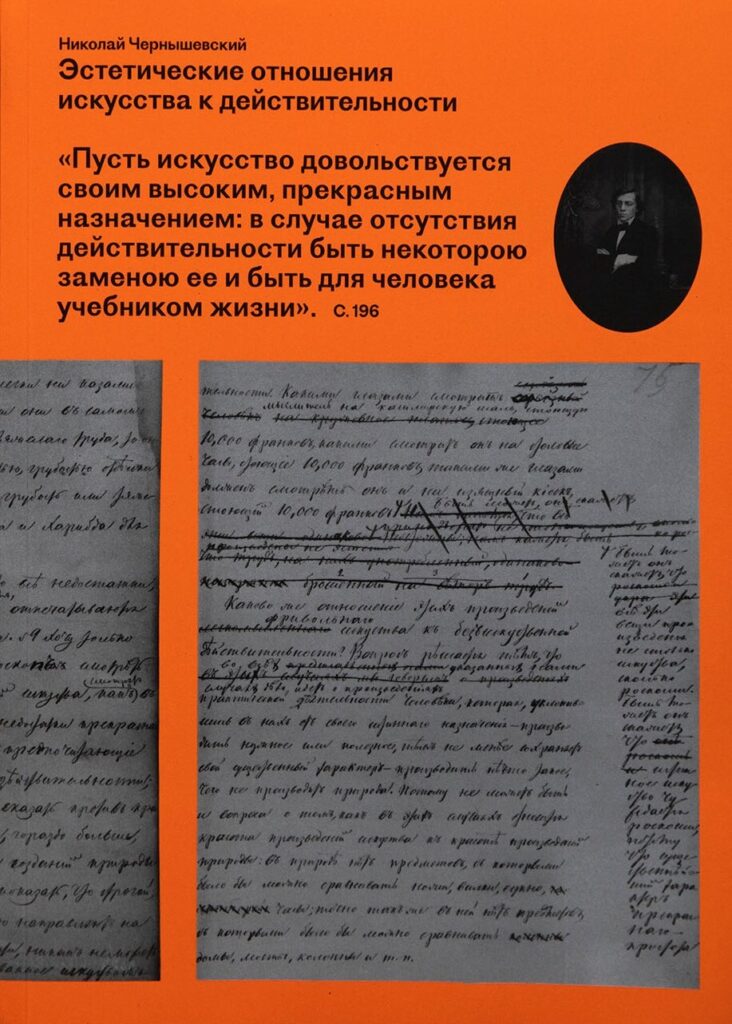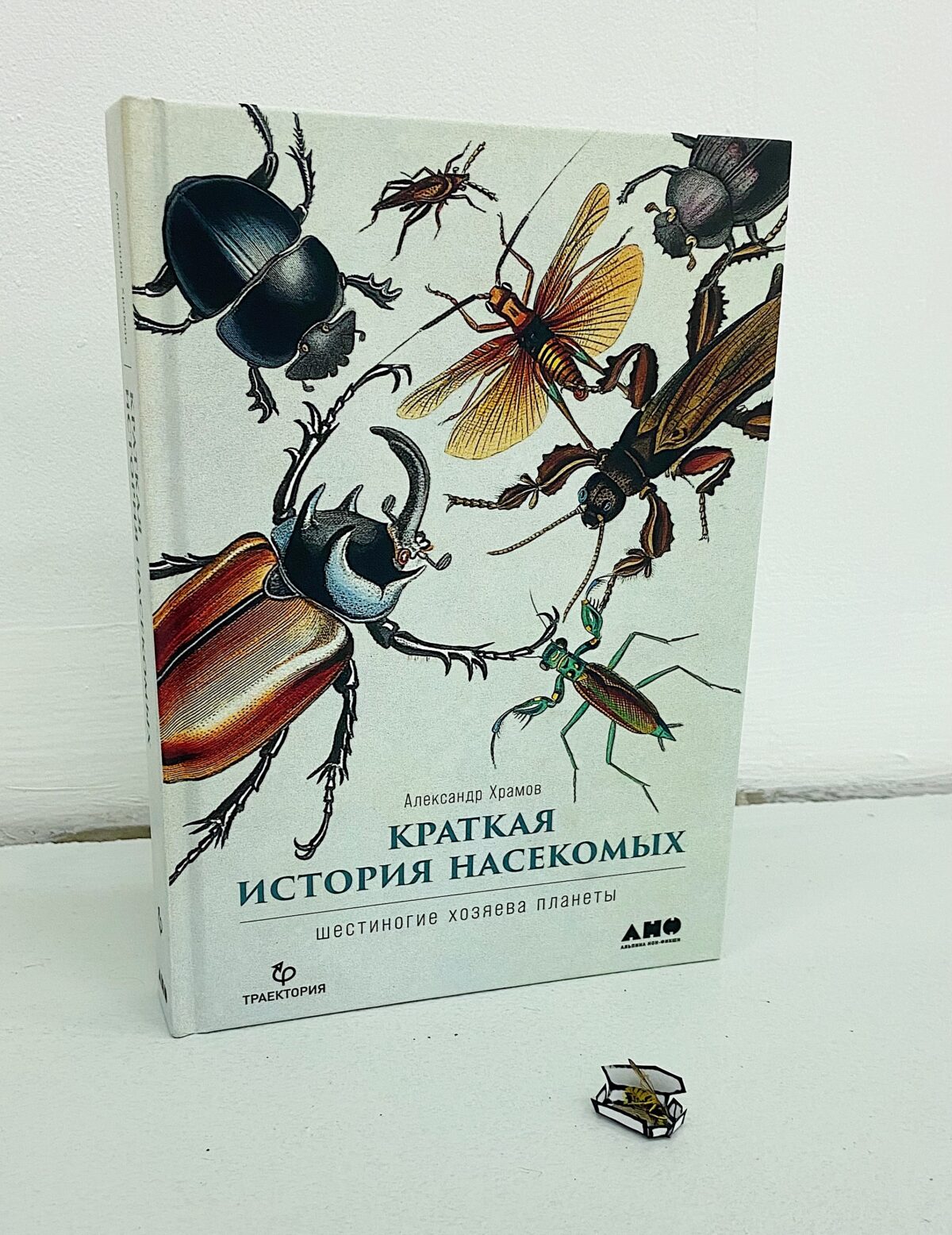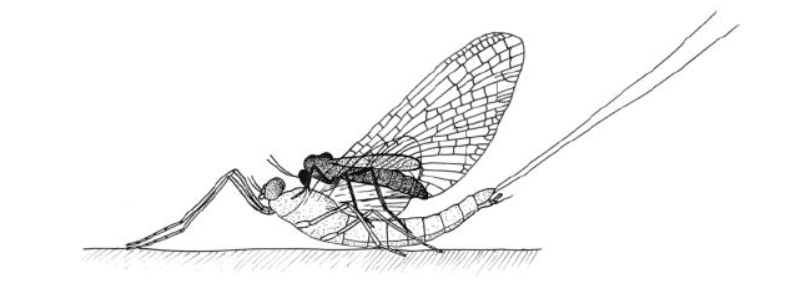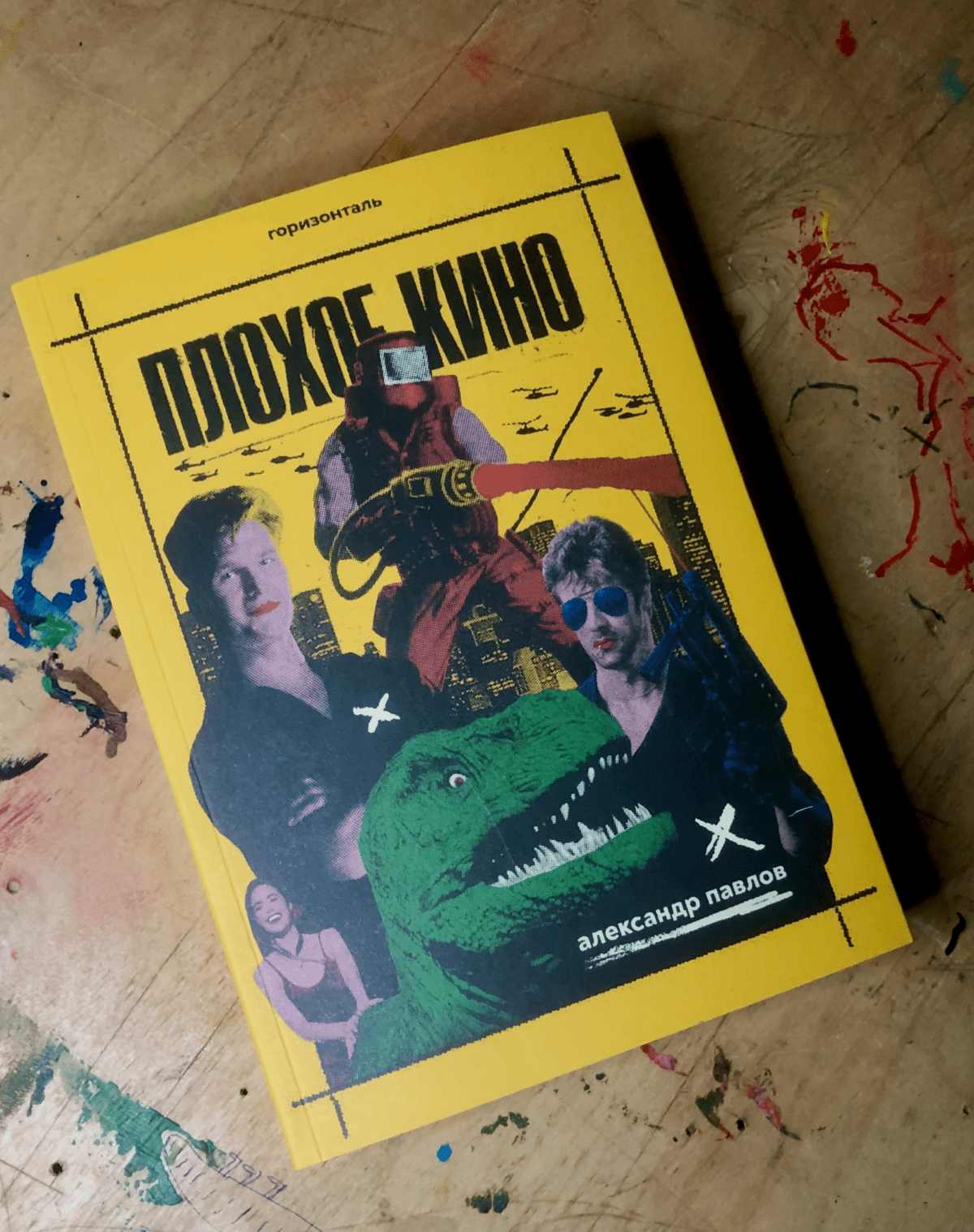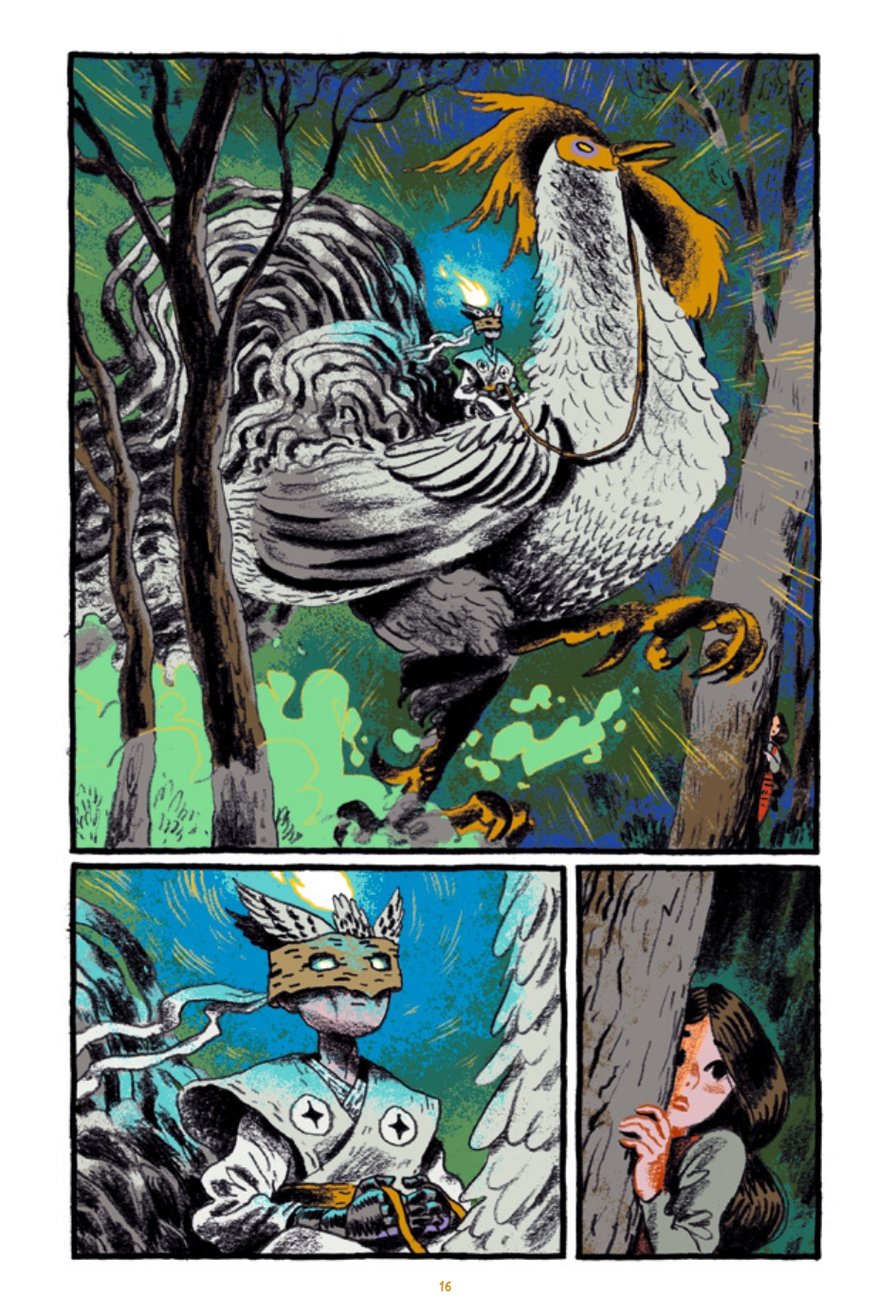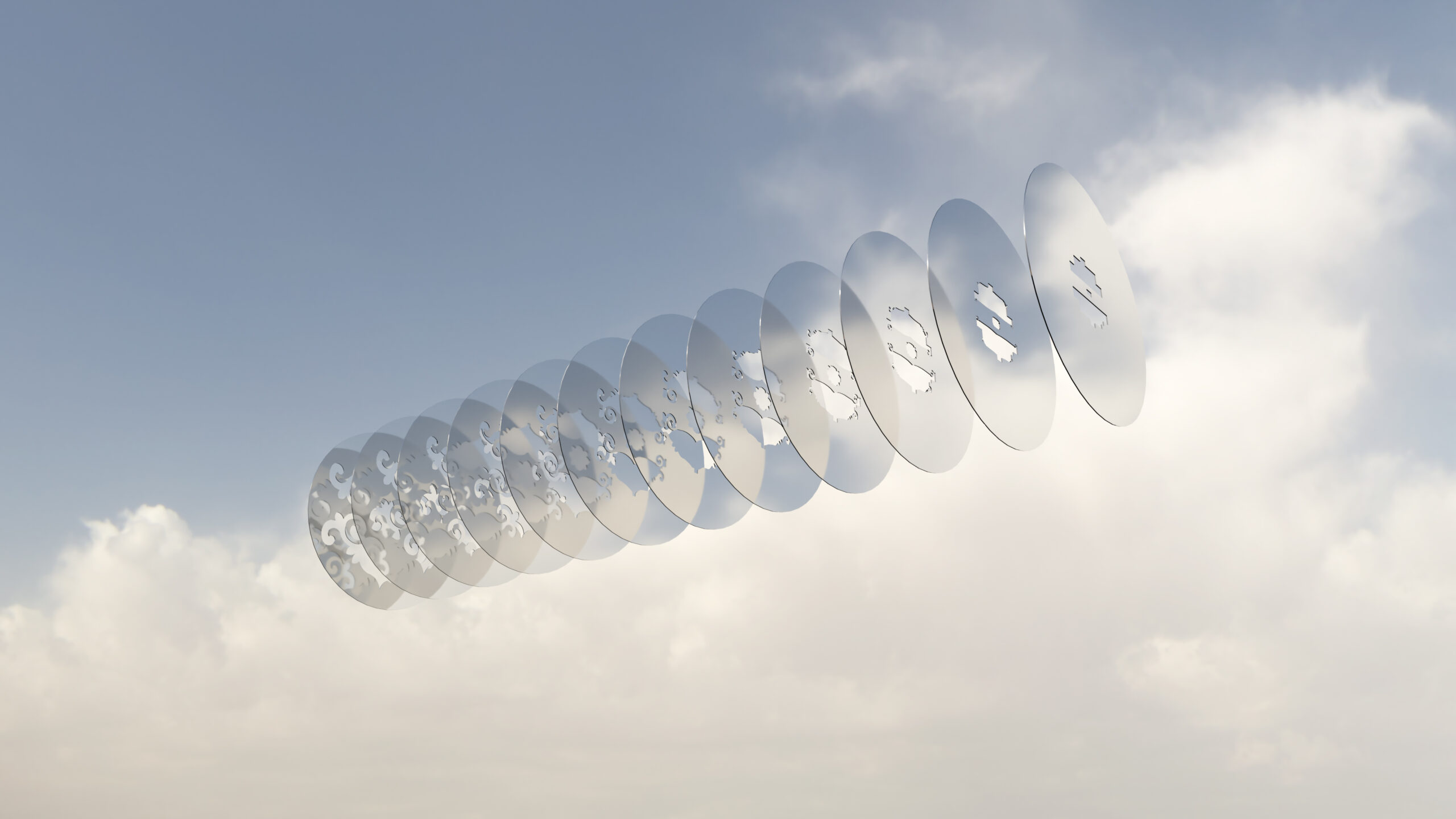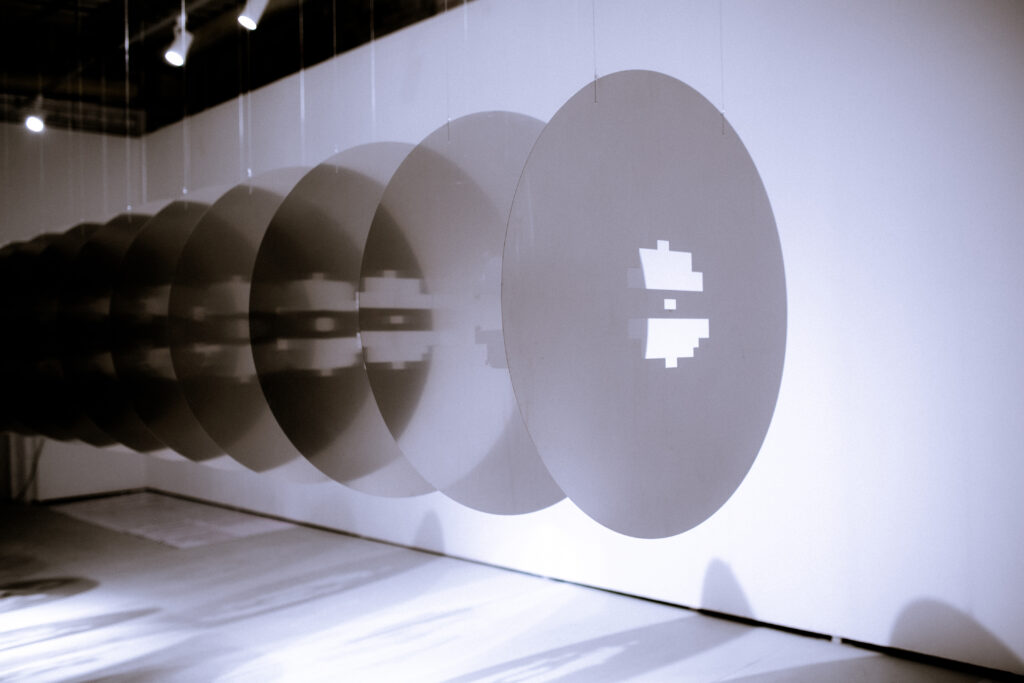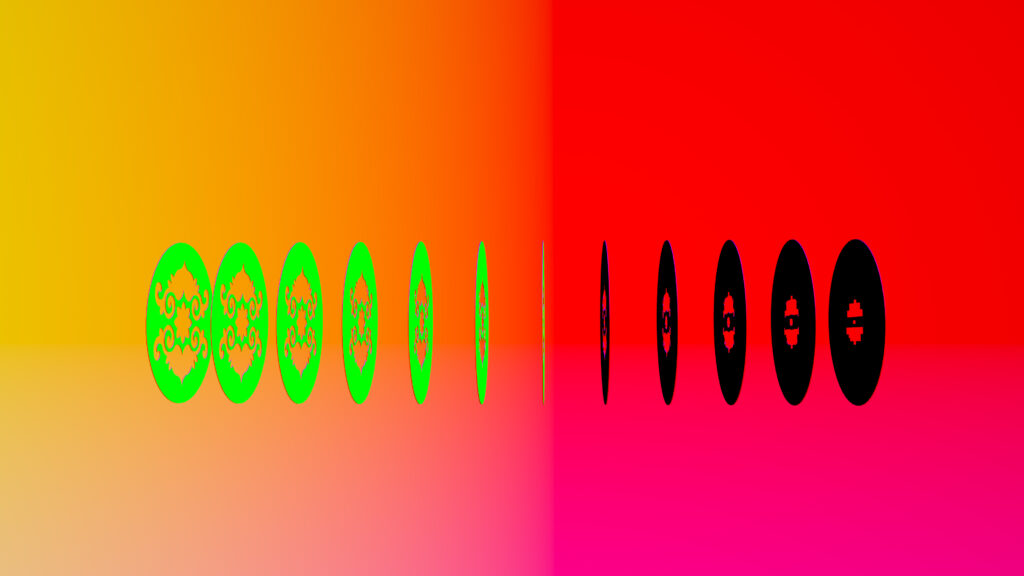фото: инде
Кандидат философских наук, руководитель Школы культурологии НИУ ВШЭ Виталий Куренной рассуждает о возможностях роста современной культурной памяти, а также рисках и парадоксах с точки зрения философии культуры.
Тема у меня была заявлена как посвященная культурной памяти и тем процессам, которые с ней происходят в связи с дигитализацией, в связи с оцифровкой. И я должен сказать, что моя лекция не обладает систематической связанностью. Скорее, я поделюсь некоторыми заметками по этому поводу, потому что мне кажется, что, когда мы говорим о цифровых медиа, понятно, что мы имеем в виду новую медийную культуру (это дигитальная культура). Наиболее уважаемый мною теоретик медиа Норберт Больц говорит, что человечество пережило три (в этом смысле) медийные революции – это письменность, это массмедиа и, собственно, дигитальная эпоха, свидетелями которой мы с вами являемся.
Надо заметить, что наше умение пользоваться этими вещами, наше умение спокойно с этим жить (любой наш ребёнок умеет обращаться с дигитальной средой с какого-то возраста) не означает, что мы вообще понимаем, что с этим происходит. Это примерно так же, как с языком: люди пользуются языком с незапамятных времён, но при этом как он устроен и как он работает, они понимают очень плохо. И даже если учесть, что последние полтора столетия учёные, философы, лингвисты и прочие сосредоточили колоссальные усилия на том, чтобы понять, как это работает, мы не можем сказать, что этот вопрос является разрешённым. Ещё большие проблемы у нас возникают, когда мы, например, пытаемся проанализировать стандартные массовые медиа, например, кино. Кто-то расскажет хотя бы как учёные смотрят кино, но как оно работает – это вопрос ещё более сложный, чем работа языка, просто в силу множественности средств, которые там используются.
А если мы говорим о дигитальной революции, о новой ситуации, то, несмотря на колоссальный интерес, который она вызывает и, казалось бы, множество исследований, мне кажется, что мы тут ещё не вышли вообще на какой-то уровень существенного анализа. Тот же Больц, например, вполне иронично как бы замечает, что хотя у нас огромное количество media studies, теории медиа мы почти не наблюдаем. Поэтому тем более я не могу здесь предложить что-то существенное и значительное, тем не менее я постараюсь пройтись по некоторым парадоксам, но и странностям, связанным со сферой культурной памяти, которые возникают в связи с пользованием именно новыми медиа.
На всякий случай такое техническое пояснение, что означают цифровые медиа. Это действительно фундаментальная революция, потому что любая информация, которая передалась посредством текста, визуальности, звука – чего угодно, может быть преобразована просто в кодировку, состоящую из двух символов (ноля и единички), и тем самым она может безраздельно передаваться, безраздельно копироваться, что чрезвычайно важно для культурной памяти. В общем, это совершенно новый этап.
Надо сказать, что эта новая медийная ситуация – она, естественно, не может не оказать влияния на нашу с вами культурную память. Я поясню и это понятие, потому что культурная память (её можно трактовать очень широко) – всё, что не передаётся посредством физических систем или биологических систем передачи информации, но передается культурно. Кристаллическая решётка любого кристалла – это некоторая физическая система. Есть биологические механизмы (генный и прочее-прочее), всё остальное – это культура. И поскольку мы с вами существа всё-таки в первую очередь культурные, нас не может не волновать вопрос: как изменение среды нашего существования, где появилась такая существенная опция, как дигитальная среда, будет влиять на нашу с вами культуру?
Я начну с очевидных вещей, например, если мы с вами вспомним вообще проблематизацию культурной памяти в науке, в философии, то, наверное, здесь таким принципиальным автором будет Фридрих Ницше и его «Несвоевременные размышления». Одно из размышлений называлось «О пользе и вреде истории для жизни». Это замечательный текст, написанный в форме политического доноса, где Ницше со всей полнотой мастерства своего пера и политического чутья обрушился на поднимавших голову историков в институциональном плане и на явление историзма, также бешеными темпами складывающегося в XIX веке, с целью показать, что это явление крайне вредит политической жизнеспособности нации. Иначе, как донос, я не могу это расценить.
Имелась в виду следующая вещь: что мы тут так много занимаемся историей, что это ведёт к релятивизации: люди могут посмотреть на любое явление с одной стороны, с другой стороны и так далее, это мешает им, что называется, «воодушевиться» бескомпромиссной энергией незнания в реализации своих целей. Это очень вредно, это такой действительно серьёзный удар по модерну, по историзму модерна и так далее. Несмотря на это, Ницше зафиксировал довольно правильную вещь, в том смысле, что культура живёт не только за счёт того, что сохраняет память о прошлом, также очень важный момент – это забывание и право на то, чтобы какой-то элемент прошлого в культуре был отсеян, потому что он незначителен, потому что человеческое внимание (как ресурс) не безгранично. В этом смысле крайне важно нам не только помнить, но и забывать. И надо сказать, что в этом смысле тема памяти является очень важной, принципиальной, острой для нашего с вами общества, потому что постоянно ведутся дискуссии: почему мы «не ворошим» свою драматическую память советского периода или, наоборот, её как-то слишком тематизируем. Это очень напряжённый момент. Тем не менее я считаю, что это важная культурная константа, связанная с тем, что человечество всё-таки в значительной степени отбрасывало часть прошлого, придавая его забвению.
Пожалуй, первое странное следствие, которое возникает, если мы посмотрим на современную дигитальную среду, заключается в том, что она судя по всему, стремится к тому, чтобы создать такие механизмы функционирования, которые бы препятствовали вообще какому-то бы то ни было исчезновению информации. На поверхности воды (с точки зрения дискуссии, которую мы с вами наблюдаем) это связано в первую очередь с защитой персональной информации и правом на то, чтобы вообще убрать такого рода информацию из дигитальной среды. Мы знаем, что уже даже в нашей стране были приняты соответствующие законодательные акты на этот счёт. Я проверил, вы знаете, например, что у интернета (к нему не сводится дигитальная медиасреда, но тем не менее это важнейший сегмент) есть архив и, как вы знаете, он на территории России заблокирован. Мы с вами как-то отрезаны от интернет-памяти из-за какой-то там нелепицы. Тем не менее, он существует, вы все можете моментально его обойти как любой китаец, знающий о существовании фейсбука, тоже может его обойти. Александр Фридрихович прав, проблема в том, что он может об этом просто не знать. Существует проблема забвения.
Я буду приводить какие-то примеры, повседневные, понятные, чтобы было ясно, в чём здесь состоит сложность на уровне повседневности и на уровне нашего с вами здравого смысла. Я поскольку (по возрасту) был свидетелем того, как интернет рождался, а он первоначально вроде бы рождался как система коммуникаций учёных, были ясные и понятные проекты. Со временем это просто взрывным образом погрузилось в пучину всего другого. И на поверхности это выглядит таким образом, что сегодня даже очень хорошие поисковые системы, которые пытаются работать с этой проблемой, не могут нам помочь с точки зрения нахождения актуальной информации.
Поскольку информация накапливается взрывным образом, ранжировать её крайне сложно по содержательной релевантности (она ранжируется по режимам обращения и прочим вещам, которыми можно манипулировать явно или они «случайно» манипулируются), то попытка обнаружить актуальную релевантную информацию – она практически невозможна. Это, кстати говоря, мы можем наблюдать по студенчеству: когда ребята работают в информационной сети, если у них не существует какой-то ясной структуры оценки дифференциации источников, то в качестве их источников начинает фигурировать попросту «помойка». Одно дело, когда раньше человек шёл в библиотеку, которая была структурирована людьми, которые являлись носителями экспертного знания, которые определённым образом поток информации разбивали, как в виде предметных указателей, так и по разным другим классификациям, и информация была, условно говоря, экспертным образом «препарирована» для того, чтобы ей можно было пользоваться, то в этом рыхлом и неструктурированном «океане» человек, который сам по себе не является носителем этого экспертного знания, не умеет отфильтровывать, оказывается в очень жалком положении, потому что сохраняется всё и непонятно, что из этого актуально. Не производится работа по структурированию, экспертному отбору и в каком-то смысле даже забвение.
Я думаю, это проблема. И проблема будет нарастать. В порядке бытового примера: наберите «правила дорожного движения», вам выскочет огромное количество страниц, которые непонятно как структурированы. Если вы не понимаете компетентный источник этой информации, велик риск того, что вы изучите правила дорожного движения позапрошлой редакции просто потому, что на него больше всего кликали. В этом смысле возникает проблема: если раньше структурирование и отсеивание информации было экстернальным (т.е. за это отвечали эксперты), то сегодня бремя структурирования отбора ложится на нас. И это, конечно, очень большое бремя. Поясню, каким образом это работает в культуре: когда вы приходили раньше на рынок (ещё не торговый центр), вы знаете теорию базара Герцена (она хорошо описана), вы там полагаетесь на экспертное мнение, вы могли разговаривать с продавцами, спрашивать «свежее-несвежее», «вкусное-невкусное», «когда привезли» – долго по этому поводу беседовать, и если ваш информатор был хорошим, вы получали квалифицированные сведения, причём он говорил: «Не нужно брать сегодня творожок, завтра приходите», и т.д.; то в супермаркете эти возможности крайне ограничены, а если вы совершаете интернет-покупку, то тут всё зависит исключительно от вашей компетенции.
Я напомню вам о том, что некоторое время назад, например, за нашу с вами коммуникацию отвечала очень большая система под названием «почтовая служба». Сегодня мы сами являемся мало того, что крайне искушёнными потребителями, экспертами, например, в продуктах питания, мы ещё с вами полностью выполняем функции почтовой службы за редчайшим исключением. То же самое касается, например, целых сегментов, которые появлялись, а потом исчезали. Но давайте вспомним функцию копирования: любой человек, знакомый с историей культуры, поймет, что это великий пласт нашей истории. Если в античности копирование манускрипта – это то, что могли позволить себе совершенно бешеные коллекционеры, не скупившиеся ни на какие деньги, в Средневековье это превратилось в дело очень узкого круга монахов, у нас произошла революция Гутенберга со всеми этими издательствами и т.д., то сегодня мы с принтером и даже небольшой машиной по скоросшиванию полностью с вами эту всю культуру интериоризировали и заменили. Огромный пласт человеческой культуры просто схлопнулся благодаря этим дигитальным возможностям. И я бы сказал, что это не безобидное схлопывание (повторюсь), потому что исчезли опосредующие экспертные инстанции, которые позволяли людям выполнять это квалифицированно. Надо сказать, что это очень сильно меняет всю нашу с вами систему вообще социализации, осваивания минимума необходимых компетенций. Если раньше мы в этом доверялись на почтальона, а Фёдор Михайлович Достоевский никогда бы не вступил во второй брак, если бы ему не нужна была помощница, которая бы записывала за ним, то сегодня бы этот счастливый брак не мог бы состояться, потому что Фёдор Михайлович (как все бы мы) сидел за своей клавиатурой и долбил. Смотрите, наша с вами дигитальная клавиатура уничтожила целый институт ассистенток. В возможном мире дигитальном судьба Фёдора Михайловича сложилась бы совершенно иначе.
Но я вернусь к первоначальному тезису. Проблема-то заключается не только в том, что мы в дигитальной культуре фактически превращаемся в многофункциональный центр в социальном смысле: мы теперь являемся и суперквалифицированными потребителями, когда нам не с кем проконсультироваться, мы являемся и почтальонами, мы являемся и отправителями факсов, мы являемся копировальщиками… Я уже молчу про всё то, что, например, связано с предыдущей медиа-эпохой аналоговых медиа, например, фотография. Я не знаю, есть ли среди нас кто-то тут кроме меня, который запирался в ванной с красным фонарём, проявлял плёнки и печатал. Но мы понимаем, что сегодня вся эта богатейшая культура минимизировалось до того, что мы подключаем камеру к принтеру и выводим это всё на печать. Это не проходит, кстати сказать, так просто. Я ещё поясню, потому что есть обратные механизмы, потому что совершенно не случайно в модных хипстерских магазинах мы видим целый набор камер ломо с нормальной цветной плёнкой и прочее. Я уж не говорю о том, что любой набор художественных фильтров сегодня забит фильтрами «под плёнку» ORWO и прочее. Даже в этой дигитальной культуре мы стараемся имитировать аналоговую и это, безусловно, очень важно.
Как я сказал, я буду немножко двигаться импрессионистически, но понятно, за всем этим стоит очень серьёзная и сложная динамика. Появление дигитальных камер самых совершенных ведёт к тому, что в культуре мы видим либо имитационный, либо реальный возврат к аналоговости, к материальности. Например, фотография, сделанная без объектива с помощью исключительно дырки в тубусе (самый примитивный вид объектива), имеет огромное количество поклонников. Не говоря уже о том, что инстаграм и все прочие подручные способы обработки цифровых изображений предлагают вам в огромном количестве сымитировать аналоговую съёмку. Мы это делаем. Но точно таким же образом, как, например, появление компакт-дисков, которые казалось бы раз и навсегда уничтожило пластинку, на самом деле не уничтожило, а создало просто большую дифференциацию. Точно таким же образом есть сегодня магазины пластинок, хотя и культовое, но не совсем уж микроскопическое явление.
Это, кстати говоря, очень важный тезис, который можно так сформулировать: появление и революционизация в рамках новых медиа не ведёт к уничтожению старого. Они сохраняются в качестве опции – это очень важный момент. Этот процесс нельзя мыслить как прогресс в однонаправленном смысле слова. Более того, мы видим, что как раз возвратное явление и становится наиболее модным. Фотография, немножко испорченная под пленку специальным фильтром, выглядит лучше, чем просто самая гламурная фотография без единого дефекта.
Ещё раз повторю, что у нас есть такая проблема – накапливание массива ненужной информации и требования к нам самим по тому, чтобы мы осуществляли этот отбор, равно как и по тому, чтобы мы всё больше и больше обладали всё большим и большим набором компетенций, которые раньше были делегированы другим социальным группам, профессиям и так далее (секретаршам, ассистенткам и прочим). Это первый момент.
Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, он немножко из другого поля, но я думаю, он всем, наверное, известен. Есть знаменитый тезис Вальтера Беньямина, сформулированный в работе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» по поводу исчезновения ауры. Вальтер Беньямин, который присутствовал при рождении второй медийной революции (появление массовых медиа с их технологиями тиражирования) заявил, что всё искусство лишается своей ауры, потому что аура была связана, во-первых, с определённой культурной функцией искусства. То, что мы сейчас называем «искусством», раньше находилось в храме и самое главное – это произведение мало того, что находилось в храме и на возвышении, оно обладало качеством уникальности просто в силу технологии производства.
Сейчас наступила эпоха технической воспроизводимости, соответственно это всё утрачивается, и с тех пор в культуре появился жуткий страх (и надо сказать, страх сидит в «костях» наших работников культуры), который заключается в том, что если нечто сфотографировано, то мы упустили свою выгоду. Более того, буквально несколько месяцев назад благодаря изменениям в российском законодательстве у нас фактически в правилах работы российских музеев появились прейскуранты, которые просто шокировали научную общественность, потому что речь идёт о том, что доступ к фондам теперь должен быть оплачен. Если вы следите за этой повесткой дня, это не произошло тотально, но новая законодательная рамка фактически позволяет это делать музеям, а их экономическое положение просто принуждает и подталкивает их к тому, чтобы этим заниматься. За этим стоит очень простой страх, я так думаю, в меньшей степени вы сталкивались с этим в музеях зарубежных при попытке фотографировать что-то в музее, и в большей степени – в отечественных.
Я сегодня забежал мимоходом в Национальный музей Республики Татарстан, где задал вопрос: «На что я могу фотографировать?». На что мне говорят: «На телефончик-то ладно». Если бы я появился со своей рабочей камерой… К счастью, её не было, не пришлось испытывать чувство неловкости, но думаю, это запрещено. За этим стоит просто страх, что произведение лишится ауры. Я, разместив эту фотографию в интернете, тут же лишу всякой мотивации всех татарских детей ходить в этот музей. Но я должен со всей серьёзностью сказать, что Вальтер Беньямин во многих случаях (в большинстве), а в этом – в особенности, был абсолютно неправ. Начнём с того, что человек явно не представлял себе, что такое иконописная деятельность.
Мы сегодня с Александром Фридриховичем разговаривали, я такой вопрос ему задал (он тоже не ответил), давайте я тоже вам его задам (давайте интерактивно, в духе новой дигитальной революции): «Один из крупнейших центров производства икон в дореволюционной России в начале XX века – это Мстёра. В Мстёре жило 5 000 человек, 3 000 из них занимались иконописным делом. Как вы думаете, сколько в год икон производила Мстёра?». Я вас должен попросить не стесняться в верхнем потолке, насколько можете отважиться.
Производилось 2 000 000 икон в год. Павел Флоренский, исходя из своих задач, мы знаем, что есть эксклюзивные товары, luxury, в иконах они тоже всегда были, естественно. Но то, что весело в красном углу среднестатистического гражданина Российской Империи, производилось совсем не так. Понятно, что за этим стояла определённая технология. Был оклад, который прессом штамповался, чтобы вписывались только видные из-под оклада детали: лик, рука, детали пейзажа. И сидели люди, специализировавшиеся на написании левой руки. Это-то ладно. Марксистам вообще свойственно не очень разбираться в производстве, но второй момент более важный: действительно ли тиражирование, а тиражирование в современном культурном контексте вообще имеет неограниченный характер, ведёт к тому, что мы утрачиваем интерес к оригиналу, к подлиннику.
Александр Фридрихович очень хорошо говорил и совершенно неслучайно сказал про то, что главный репрезентант мирового общества сегодня – это турист. И давайте просто зададим простой вопрос: «Что эти все туристы туда едут?» Помимо, естественно, того, что они там загорают и купаются. Что тоже, кстати говоря, немаловажно. Естественно, «Подсолнухи» Ван Гога в виде репродукции висят у каждой второй девушки в мире в её комнатке, но это, вообще-то говоря, не означает, что огромные очереди, потоки туристов не мчатся в голландский музей для того, чтобы посмотреть разные версии этого самого Ван Гога. Не мне вам говорить или напоминать об этих фотографиях огромных толп, которые окружают «Мону Лизу» или Климта, который есть везде на коробках с печеньем и так далее и тому подобное.
Тезис о том, что тиражируемость (а новая дигитальная медиасреда означает неограниченную тиражируемость, чудовищно сложную тиражируемость) ведёт к забвению оригинала, к утрате к ним интереса – он ложен. Напротив, только эпоха тиражирования создала для произведения искусства в рамках нашей с вами модерновой цивилизации ауру, которая и не снилась величайшим святыням традиционного общества. Исключим, конечно, Мекку. Хотя по цифрам тут можно ещё поспорить, потому что это всё-таки один раз в год, а если мы посмотрим на цифры посетителей Метрополя и т. д., то вполне возможно, что это сопоставимые вещи.
Существует некоторая иллюзия того, что культура виртуализируется и тем самым приходит в забвение или утрачивается смысл значения и востребованность подлинных артефактов. Это не так. И тем самым мы переходим к следующему очень важному сюжету, который можно обозначить как некоторую проблему иллюзорности той революции, которую мы с вами переживаем. Потому что виртуализация, дигитализация, мультимизация и т. д. на протяжении долгого времени (по крайней мере, на протяжении двадцати лет, когда активные массы в это вовлечены) воспринимается как переход к совершенно новому цивилизационному этапу, в котором реальные прототипы утрачивают своё значение. Мой краткий кейс с Беньямином доказательно показывает, что это просто не так. И в этом смысле хотя, конечно, все мы даём читать Беньямина, но вообще эту литературу стоило бы запретить, как очевидно ложное. По крайней мере, предупредить что это, очевидно, обман масс.
Важный сюжет, который опять же связан с проблемой того, что подлинное не утрачивает своё значение, а напротив – его значение только возрастает, связано, например, с проблемой коммуникации. Опять же, не мне вам говорить, какая существует разветвлённая культур-критика по поводу того, что современные дигитальные способы коммуникации убивают живую коммуникацию. Огромное количество алармистских, антиутопических кинопроизведений и антиутопий показывают нам какие-то жуткие последствия каких-то страшных мизантропов, которые сидят запершись в своём доме и пользуются только выгодами новой коммуникации. Главное, что меня убеждает в обратном – это то, что вы сюда пришли, а в общем могли бы это всё записать и на скайпе протранслировать. На мой взгляд сегодня видеоконференции по скайпу проводят люди, которые профессиональные грантоеды, которым надо как-то грант отбить. Именно в контексте сегодняшней упростившейся моментальной глобальной коммуникации, всё более сгущающейся, всё более напряжённой, роль коммуникации прямой является необычайно высокой и, более того, именно она и возрастает. Связано это с тем, что у нас растёт плотность и объём информации. И в этом плотном объёмном потоке информации ориентироваться становится решительно невозможно. Мы знаем, что отдельные сектора культуры по-своему пытаются с этим справляться. Например, почему всех людей, которые здесь имеют отношение к науке или к университету, не может не беспокоить это жуткое безумие, связанное с публикациями в западных реферируемых журналах. И всё просвещённое мировое сообщество с этим борется, но, тем не менее, безнадежно. В чём смысл реферированного журнала, почему это нужно? Да потому, что в принципе это инстанция, которая ставит фильтры. Учитывая то, что количество научных публикаций растёт по экспоненте и все более молодые и амбициозные, графоманские. В каких-то дисциплинах с этим справились.
Самая великая статья по проблеме знания в аналитической философии занимает три страницы (проблема Гетье). Гетье опубликовал в жизни одну статью на три страницы и всё. Но немногие дисциплины ещё дошли до такого состояния, чтобы понимать, что хорошая научная публикация – это пост в фейсбуке, больше не надо. Вот поэтому есть всякие ритуалы и прочее. Но смысл здесь следующий, что нужны преграды и эти реферируемые журналы – это попросту авторитетные люди отсекают, условно говоря, не то что плохое, они выбирают важное, интересное и т.д. Мы знаем, что под давлением таких государств как наше эта система тоже разваливается, потому что всем там нужно публиковаться, но мы же знаем, как решать вопросы… Это всё огромная проблема. А дигитализация культурной памяти (а система образования – это важнейший институт культурной памяти) не ведёт к упразднению существовавших институтов, всего лишь навсего их популяризирует, попросту ведёт к возрастанию их востребованности.
Возвращаясь к примеру с аурой Беньямина, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что огромное количество музеев сегодня (буквально у нас есть в фейсбуке у школы группа, называется «КультБук» и там ребята, студенты, модераторы они всё время постят какие-то новости культурного мира, и я каждый день вижу, как какой-то музей, какая-то библиотека открыла огромный набор этих цифровых данных. И, конечно, люди уже понимают, что это не ведёт ни к какой утрате интереса: ни к этим архивам, ни к этим фондам, ни к этим оригиналам. Мне кажется, именно сейчас мы переживаем такую существенную революцию в понимании того, что максимальная открытость будет означать и максимальную востребованность. Это «эффект Мона Лизы», которую растиражировали так, что прохода нет, но люди ломятся и ломятся. Он, я думаю, сработает и в данном случае. Это, конечно, предположение, но, тем не менее, судя по поведению, я это вижу. В какой-то момент в западных музеях перестали ставить какие бы то ни было ограничения на фотосъёмку. В России это, к сожалению, очень большая проблема. Мы пока немножко на периферии находимся этих процессов. Это очень грустно, потому что у нас и культурное наследие гибнет всего этого. Это вообще касается нашего музейного мышления, которое совершенно особым образом возникло и функционирует – отношение к фонду музея как к сокровищу, которое нужно охранять, оберегать, прикрывать к нему доступ и прочее. Тема отдельного разговора, я не буду её затрагивать.
Существенные риски, которые связаны с дигитальный системой, для пояснения я вам хочу сказать, что на самом деле мы с вами, находясь в эпицентре этой революции, вообще не понимаем всю драматичность периода, который мы переживаем. Я тут позволю себе некоторые примеры привести (даже личные). Все люди, которые занимались историей культуры, понимают, что важнейший источник в ней – это, например, переписка. Если посмотреть на какие-то великие переписки людей XX века, например, переписка Эдмунда Гуссерля – это десять таких томов, это огромный труд, где собрано всё. У нас есть переписка Спинозы в той мере, в какой она есть. Есть переписка Лейбница и прочее. Теперь очень простой вопрос: «А где будет ваша переписка, когда вы станете теми людьми, к которым историки будущего будут обращаться для изучения нашего настоящего?»
Действительно, так случилось, что за несколько последних лет у меня скончалось несколько коллег достаточно молодых, для того, чтобы весь их основной период творчества пришёлся на дигитальную эпоху. У них не было рукописей, у них за всю жизнь было несколько компьютеров, некоторые из которых когда-то «полетели», они не умели переносить свои почтовые архивы, но даже если и перенесли, так случилось что никто не знает их пароль.
Я должен сказать, что эта вся замечательная дигитальная эпоха, относительно которой мы все беспокоимся, что нас там видит «большой брат» и всё про нас знает, и все всё про нас знают, на самом деле имеет обратную сторону. Именно в дигитальную эпоху наша с вами жизнь будет все менее и менее известной, по крайней мере, в текущей ситуации, для историков культуры будущих поколений. Не нужно предаваться иллюзиям, что это всё очень надёжно. Это всё крайне ненадёжно, и мы будем с вами иметь провал в истории. Немножко из другого поля, но аналогичный пример. Когда будут открыты все архивы, мы будем хорошо знать историю советского периода, потому что там всегда на любом заседании Политбюро сидела стенографистка, которая стенографировала всё. Мы знаем всё об истории советского периода, что касается его верхушки политической власти. Как вы думаете, будем ли мы знать так же хорошо историю нашего с вами периода? Нет. Хотя у каждого в кармане полноценный диктофон и т. д.
Буквально несколько недель назад в интернете появился текст, называется «Инженерная археология» (правда его почему-то поубирали (перевод), видимо, с правами проблема). Я его с удовольствием прочитал и теперь цитирую. Что означает переломность нашей с вами эпохи? Человек рассказывает историю завода. Он инженер. В 80-е годы был построен большой нефтеперерабатывающий завод, который работал, его хорошо поддерживали, он работал, работал десять лет, работал двадцать лет, работал двадцать пять лет. В какой-то момент хозяева/владельцы решили, что его нужно перестроить, и выяснилась совершенно потрясающая ужасающая вещь, что всё знание о заводе, которое имеется, связано с поддержанием его работы, потому что уже никто не понимает, как он устроен. А при том, что там производились какие-то архивирования всей документации, причём, несколько раз, и эти все дигитальные архивы куда-то сгинули (кстати, в Национальной британской библиотеке 30 миллионов страниц документов стали нечитаемыми несколько лет назад, потому что они это делали в каком-то формате какой-то базы данных нелепой, которую нельзя уже прочесть). И этот текст по инженерной археологии рассказывает драматическую историю, как какими-то жуткими ухищрениями еле-еле удалось найти бумажный архив с этими «синьками» и хоть как-то справиться с этой проблемой, потому что иначе эта вся дигитальность попросту означала, что с этим заводом ничего нельзя будет сделать, потому что память об этом не сохранена. Я уже молчу, что там пришлось решать другую проблему: им пришлось брать старые учебники, заново учиться по этим учебникам, потому что они в этом уже ничего не понимали, потому что понятно, что люди вообще не понимают, что это такое, почему есть цех «А» и цех «B», и котёл «С» стоит здесь – непонятно. Это, кстати, наши повседневные риски, потому что если вы вовремя не сделали бэкап своего фотоархива, то несколько лет вашей жизни вылетят непонятно куда. Мы эти риски с вами переживаем. Я, конечно, уверен, что облачные сервисы позволят с этим всем справиться, удешевление памяти, прочее, но тем не менее это очень серьёзные риски.
Я недавно подробно разговаривал со специалистами по нашему архивному делу, у нас не существует способов принятия на хранение электронных архивов. Всё, с чем мы с вами имеем дело в виде памяти, которая останется о нас с вами в будущем, это бумажная документация. Я даже вообще не понимаю, как мы будем иметь дело с вами сейчас с форматированием той информации, которую мы хотим оставить потомкам. Обеспечить трансляцию памяти, учитывая то, что она утратила экспертные структуры внешнего иерархизирования, отбора, структурирования. Я тоже не понимаю, как я сейчас обращаюсь в какой-то архив и говорю: «Примите на хранение жёсткий диск». Это катастрофа.
Та пауза, которую мы с вами будем сейчас наблюдать в рамках перехода на цифровой формат до тех пор, пока будут выработаны какие-то экспертные механизмы структурирования, депонирования этой всей системы, является гигантской проблемой. Я тут немножко культур-критически выражусь, хотя я не хочу нагнетать алармизма, но мы с вами действительно имеем дело с ширящимся пятном, белым пятном, слепым пятном в нашей культуре просто потому, что эти форматы не состыкованы. Мы с вами живём, коммуницируем в дигитальной форме, а институты сохранения культурной памяти не дигитальны. И тот, кто имеет уже некоторый опыт существования в интернете, понимает, что некоторые сервисы, которыми мы с вами пользуемся, могут казаться вечными, но они могут буквально завтра пропасть. И ничего от них не останется. Люди старшего поколения, может, помнят первые бесплатные вечные адреса какого-нибудь поисковика AltaVista. Казалось, это будет на века. Это может закрыться завтра и ничего. Если вы сохранили все документы в Google Docs, это ничего не означает.
В нашей с вами культуре (это уже завершающий комментарий) проблема обостряется тем, что у нас не существует разветвлённых и дифференцированных механизмов сохранения культурной памяти. Дело в том, что единственный субъект, который является носителем культурной памяти (долгосрочной) в стране – это государство. У нас нет ни частных архивов, ни практики, ни способов сохранения диверсифицированной, разделённой системы культурной памяти.
Я сегодня с ребятами разговаривал про частный музей в Казани. Вот интересно: Музей великана есть, Музей счастливого детства, но это, казалось бы, тоже институт сохранения культурной памяти. Нужно понимать, что мы с вами в стране живём в том контексте, что единственный гарант сохранения памяти – это государство. Я с прискорбием это констатирую, кстати сказать. Мы знаем неповоротливость нашего государства, его в этом смысле не быструю способность куда-то переходить на новые платформы. Это, повторюсь, проблема.
Но если вернуться в начало, к первоначальному тезису, глубинному, который я хотел здесь сформулировать, он заключается всё-таки в том, что не нужно испытывать эйфорию по поводу того, что мы теперь с вами живём в новой реальности. Нет, это дополнение. Здесь есть свои риски, на мой взгляд, очень существенные. Я их обозначил. Кажется, мы с вами сейчас сидим, и то, что я говорю здесь, документируется со всех сторон. А я вас уверяю, что от этого ничего может не остаться. И это означает, что (вспоминая Платона), мы должны друг друга поблагодарить за чудо аналоговой коммуникации.
На этом я бы хотел закончить.
Проект реализуется победителем конкурса по приглашению благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина.