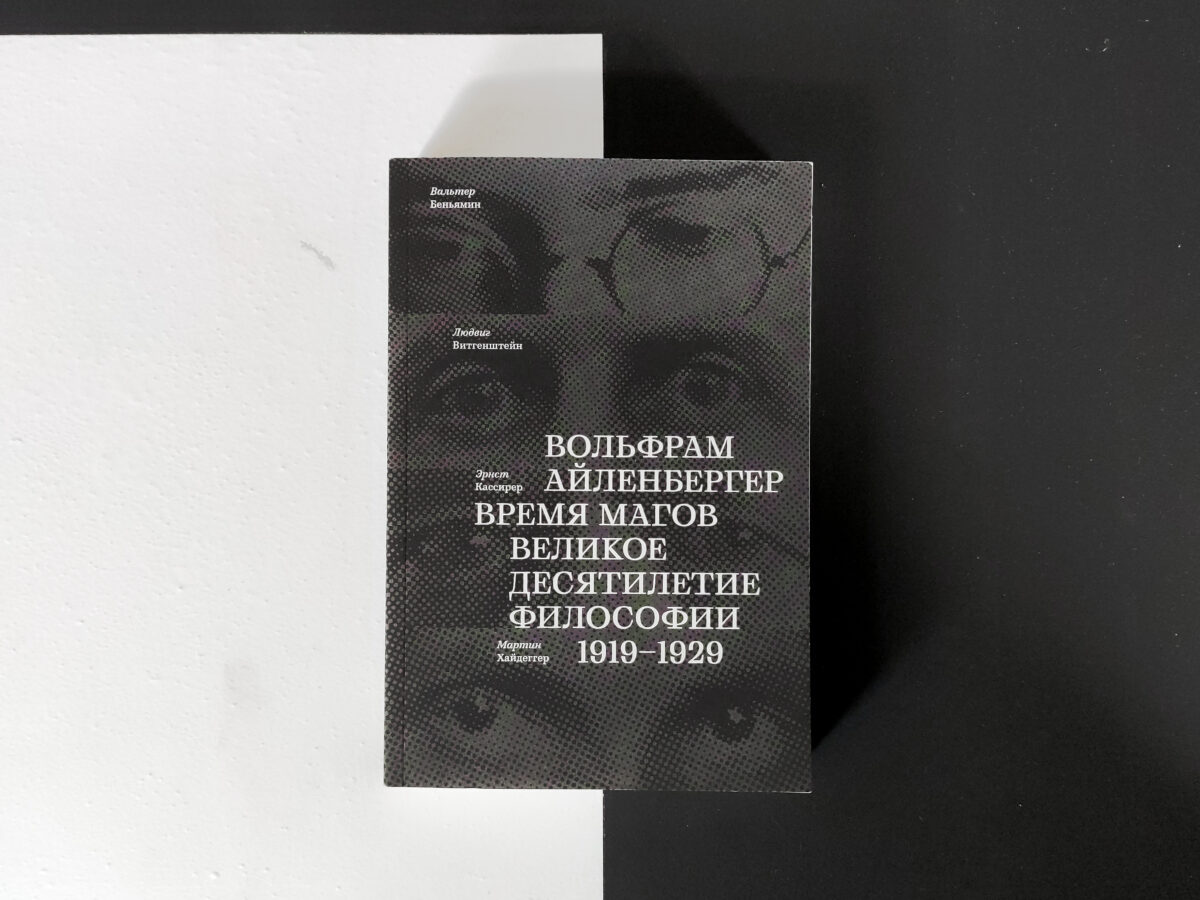Издательство Ad Marginem мы любим по многим причинам и в том числе за множество увлекательных интеллектуальных биографий. С одной стороны это целая серия «Критические биографии», посвященная важным деятелям XX века, с другой — обобщающие целые явления книги вроде «Гранд-отель «Бездна»» о Франкфуртской школе. Книга этой недели — «Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929» — относится как раз ко второй категории. В ней публицист Вольфрам Айленбергер рассказывает сразу о четырех культовых философах, их жизненных и интеллектуальных траекториях — о Людвиге Витгенштейне, Вальтере Беньямине, Мартине Хайдеггере и Эрнсте Кассирере. Интересно, что биография Беньямина уже появлялась в упомянутой работе о Франкфуртской школе (а еще в Ad Marginem выходил целый корпус его текстов), а о Витгенштейне у AM есть книга в «Критических биографиях». Теперь же у нас есть возможность посмотреть на этих героев через новую оптику и в конкретный исторический промежуток – узнать, как жизни четырех «магов» причудливо переплелись между собой и с перипетиями бурного времени между двумя мировыми войнами.
В «Рупоре Смены» мы публикуем отрывок из пролога — о «самом странном экзамене в истории философии», который держал гордый и самодовольный Людвиг Витгенштейн по своей главной работе «Логико-философский трактат».
«Не переживайте, я знаю, вы никогда этого не поймете». Этой фразой 18 июня 1929 года в Кембридже, Англия, закончился самый странный экзамен в истории философии. Перед комиссией, состоявшей из Бертрана Рассела и Джорджа Эдварда Мура, в качестве соискателя докторской степени предстал сорокалетний австрийский экс-миллиардер, последние десять лет работавший по преимуществу учителем начальной школы. Его имя — Людвиг Витгенштейн. В Кембридже Витгенштейн чужим не был. Напротив, с 1911 года и почти до самого начала Первой мировой войны он учился там у Рассела и по причине своей очевидной гениальности, а равно и сумасбродства, быстро стал среди тогдашних студентов культовой фигурой. «Итак, бог прибыл. Я встретил его на вокзале в 5.15», — отмечает Джон Мейнард Кейнс в письме от 18 января 1929 года. Кейнс, в ту пору, пожалуй, крупнейший в мире экономист, случайно встретил Витгенштейна в день его возвращения в Англию. А тот факт, что тем же поездом из Лондона в Кембридж прибыл и старый друг Витгенштейна Джордж Эдвард Мур, много говорит о чрезвычайно тесной и, стало быть, чреватой толками обстановке тогдашних кружков.
Впрочем, обстановку в купе не стоит представлять себе очень уж непринужденной. Ведь и small talk, и сердечные объятия Витгенштейну были, по меньшей мере, не свойственны. Венский гений скорее имел склонность к внезапным приступам ярости, а вдобавок отличался крайней злопамятностью. Однединственное неловкое слово или шутливое политическое замечание могли привести к многолетней неприязни и даже к разрыву отношений — что неоднократно испытали на себе и Кейнс, и Мур. Тем не менее: бог вернулся! И радость была, соответственно, велика.
Однако гений, к тому времени сорокалетний, не имел ученого звания и к тому же оказался совершенно без средств. То немногое, что он сумел скопить за минувшие годы, было израсходовано всего за несколько английских недель. Осторожные вопросы, не готовы ли богатые родичи оказать ему финансовую помощь, Витгенштейн встретил резким протестом: «Будьте добры принять мое письменное заявление, что у меня не только есть целый ряд состоятельных родственников, но и что они дали бы мне денег, если бы я попросил. Однако я не попрошу у них ни пенни», — сообщает он Муру накануне своего устного докторского экзамена. Что же делать? Никто в Кембридже не сомневается в исключительном таланте Витгенштейна. Все, в том числе самые влиятельные персоны университета, хотят удержать его здесь и помочь ему. Но без ученого звания даже в семейной атмосфере Кембриджа институционально невозможно предоставить научную стипендию, а тем более постоянную должность, человеку, некогда бросившему учебу.
В конце концов, придумали такой план: пусть Витгенштейн подаст «Логико-философский трактат» как докторскую диссертацию. В 1921–1922 годах Рассел лично содействовал публикации этой работы и, чтобы обеспечить ее издание, написал к ней предисловие, поскольку считал труд своего бывшего ученика куда более превосходящим его собственные, столь же эпохальные работы по философии логики, математики и языка.
Поэтому не приходится удивляться, что, входя в экзаменационный зал, Рассел ворчал, что «ничего абсурднее в жизни своей не видел». Тем не менее: экзамен есть экзамен, и после нескольких минут дружеских расспросов Мур и Рассел все-таки перешли к некоторым критическим аспектам. Касались они одной из центральных загадок Витгенштейнова «Трактата», отнюдь не бедного на туманные афоризмы и мистические одностишия. Уже первая фраза произведения, строго упорядоченного по хитроумной десятичной системе, дает впечатляющий тому пример. Она гласит:
Мир есть всё то, что имеет место.
Однако и записи вроде нижеследующих тоже были (и остаются по сей день) для последователей Витгенштейна загадкой:
Как обстоят дела в мире, совершенно безразлично для высшего. Бог не открывает себя миру. Мистическое заключено не в том, как явлен мир, а в том, что он есть.
Несмотря на загадочность, главный импульс книги ясен. Витгенштейнов «Трактат» продолжает долгую традицию и стоит в одном ряду с такими трудами Нового времени, как «Этика, доказанная в геометрическом порядке» (1677) Баруха Спинозы, «Исследование о человеческом разумении» (1748) Дэвида Юма и «Критика чистого разума» (1781) Иммануила Канта. Все эти труды стремятся провести грань между теми предложениями нашего языка, что действительно наделены смыслом и тем самым способны быть истиной, и теми, что только лишь кажутся осмысленными и по этой причине вводят наше мышление и нашу культуру в заблуждение. Иными словами, речь в «Трактате» идет о терапевтическом участии в постановке проблемы осмысленного высказывания. Не случайно книга заканчивается тезисом:
То, о чем нельзя сказать, следует обойти молчанием.
И всего одной десятичной ступенью выше, под номером 6.54, Витгенштейн раскрывает свой терапевтический метод:
Мои суждения уточняются следующим образом: тот, кто понимает меня, в конце концов признает их бессмысленными, когда проберется сквозь них, по ним, над ними. (Он должен, так сказать, отбросить лестницу после того, как взобрался по ней.) Он должен преодолеть эти суждения, чтобы правильно увидеть мир.
Как раз к этому пункту и цепляется Рассел в экзаменационной беседе. Как именно это должно происходить — как, нанизывая бессмысленные суждения, помочь человеку правильно, даже единственно правильно увидеть мир? Разве в предисловии к своей работе Витгенштейн не подчеркнул, что «истинность размышлений, изложенных на этих страницах», представляется ему «неоспоримой и полной». Как такое может быть в работе, которая, согласно сказанному в ней же, почти сплошь состоит из бессмысленных утверждений?
Этот вопрос был Витгенштейну не в новинку. В первую очередь — из уст Рассела. За годы оживленной переписки он стал почти ритуалом в их напряженной дружбе. Стало быть, for old times sake Рассел снова поставил свой вопрос.
К сожалению, мы не знаем, что именно ответил Витгенштейн в свою защиту. Но можем предположить, что отвечал он, по обыкновению слегка заикаясь, с горящими глазами и с весьма своеобразной интонацией, походившей не столько на иностранный акцент, сколько на речь человека, который ощущает в словах человеческой речи особое значение и музыкальность. А затем, после нескольких минут запинающегося монолога, в постоянных поисках по-настоящему яркой формулировки (и в этом тоже своеобразие Витгенштейна), он в очередной раз придет к выводу, что сказал и разъяснил достаточно. Ведь просто невозможно растолковать всё каждому человеку. Ведь он так и написал в предисловии к «Трактату»:
По всей видимости, книгу эту поймет лишь тот, кто уже самостоятельно приходил к мыслям, в ней изложенным, — или по меньшей мере предавался размышлениям подобного рода.
Проблема заключалась лишь в одном (и Витгенштейн это знал): очень немногие люди (а возможно, вообще никто) когда-либо приходили к таким мыслям и формулировали их. Во всяком случае — не его некогда высокочтимый учитель Бертран Рассел, автор «Principia Mathematica», которого Витгенштейн находил всё же философски ограниченным. А тем более — не Дж. Э. Мур, известный как один из самых блестящих мыслителей и логиков своего времени, о котором Витгенштейн в доверительных беседах говорил, что «Мур — выдающийся пример того, сколь многого может достичь человек, не располагающий ни крупицей ума».
Как ему объяснить этим людям лестницу бессмысленных мыслей, по которой сперва нужно подняться, а затем отбросить ее, чтобы увидеть мир таким, каков он на самом деле? Разве мудрец из Платоновой притчи о пещере, однажды выйдя на свет, не потерпел неудачу, попытавшись объяснить увиденное другим ее пленникам?
На сегодня довольно. Довольно объяснений. Витгенштейн встает, обходит вокруг стола, благосклонно хлопает Мура и Рассела по плечам и произносит фразу, которая по сей день снится каждому философу-докторанту в ночь накануне экзамена: «Не расстраивайтесь, я знаю, вам никогда этого не понять».
На том спектакль и закончился. Муру досталось написать экзаменационное заключение: «По моей личной оценке, докторская диссертация г-на Витгенштейна — работа гения; и во всяком случае она удовлетворяет требованиям, необходимым для получения степени доктора философии в Кембридже».
В скором времени была предоставлена и стипендия. Витгенштейн вернулся в философию.
Проект реализуется победителем конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина